Сходство поперечно-полосатой мышечной ткани членистоногих и позвоночных
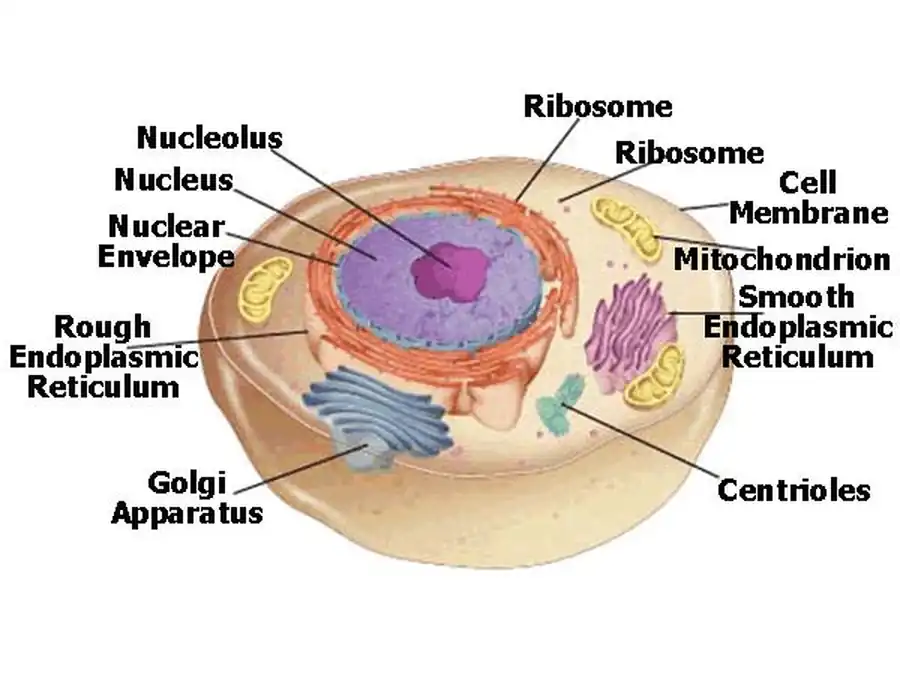
Неоспоримая нереальность построенных А. А. Заварзиным параллельных рядов усложнения тканей позволяет нам с уверенностью вернуться к предварительному заключению: «ряды»— не более как модель морфофункциональных отношений в тканях, причем модель рабочая, преднамеренно игнорирующая те нарушения «идеальных» морфофункциональных отношений, которые вносит реальный филогенез тканей.
Сам А. А. Заварзин [1953] признавал, что его «часто упрекают в игнорировании филогенетических отношений при установлении закономерностей параллельных рядов». При таком понимании «ряды» А. А. Заварзина оказываются временной рабочей гипотезой, помогающей оформиться основной идее о соответствии структуры и функции. Далее эта идея может существовать и существует независимо от гипотезы параллельных рядов, получая подкрепление от других фактов и аргументов.
Представления А. А. Заварзина о путях эволюции тканей неверны, но его заключение, что законы их эволюции не тождественны эволюции органов и целостных организмов справедливы. Если бы сходство было полным, уже попытка Э. Геккеля создать генетическую классификацию тканей должна была увенчаться хотя бы частичным успехом, так как на организменном уровне такой метод хорошо «работает». Заслуживают внимания и параллелизмы в эволюции тканей с «одноименной» функцией, отчего в ряде случаев филогенетически удаленные друг от друга или совсем не родственные ткани обнаруживают большое сходство [Заварзин, 1934; Von Ebner, 1911] в строении.
Надо сказать, что такие случаи не однородны. Сходство поперечно-полосатой мышечной ткани членистоногих и позвоночных — пример параллельной эволюции, а сходство у зауропсид мионейральной ткани сфинктера зрачка с миотомной поперечно-полосатой мышечной тканью оценивалось Н. Г. Хлопиньш как конвергентное. Имеют ли эти на первый взгляд разные варианты эволюции какой-то общий фундамент? К этому вопросу мы еще вернемся. А пока отметим, что в программировании строения организма используется весь геном, а для ткани — только часть его. Следствием является то, что в процессе эволюции судьба генома и программы формирования ткани может быть разной. Геном в целом неизбежно перестраивается, и после превращения кистеперой рыбы в амфибию полная программа построения рыбы в нем сохраниться не может.
Сохраняются лишь фрагменты такой генетической информации, обеспечивающие односвязность форм-стадий онтогенеза дочерних форм. Напротив, после превращения миоэпителиальных клеток предков в миоциты и миосимпласты у позвоночных программа дифференцировки исходных миоэпителиальных клеток сохраняется. И потому исчезнувшие в процессе эволюции миоэпителиальные клетки могут при дальнейших изменениях ткани появиться вновь, что и произошло в коже амфибий и в глазе млекопитающих. Причем в радужине млекопитающих эти клетки не отличаются существенно от миоэпителиальных клеток у рыб и амфибий. Для целостного организма такой «возврат» невозможен (во всяком случае, так утверждает закон необратимости эволюции).