Понимание природы эпителиев как пограничных тканей
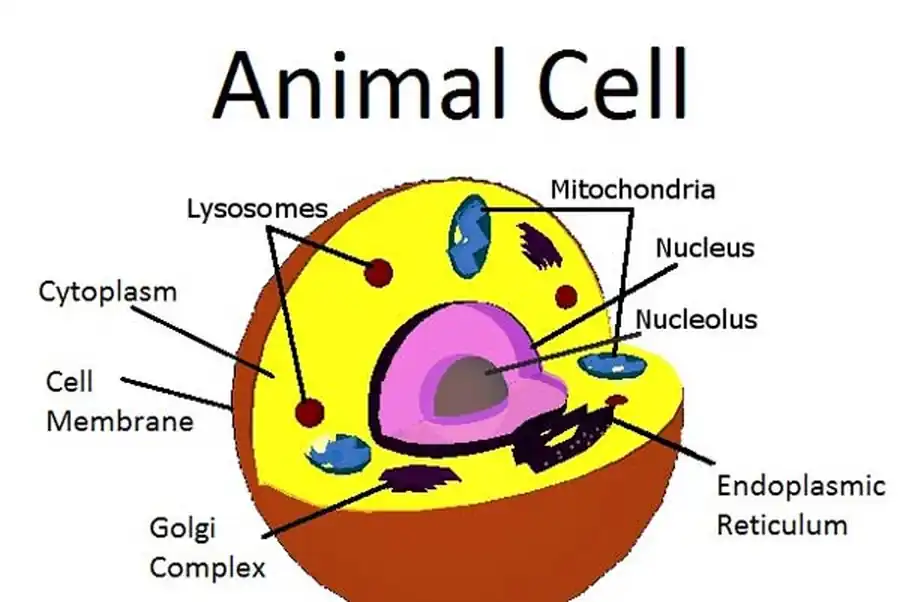
Путь, по которому пошло дальнейшее развитие общей гистологии, представляется нам естественным, но он также связан и с издержками.
Во-первых, задержалось изучение гистологического содержания эмбриогенезов. Во-вторых, исследование специализации клеток обогнало понимание функциональной специализации тканей. Это привело к попыткам определить свойства тканей через свойства составляющих клеток, хотя свойства целого к свойствам частей не сводятся (а генетические различия морфологически сходных клеток и тканей могут быть существенными).
В начале нашего столетия устоялось привычное деление тканей на эпителиальные, соединительные, мышечные и нервную. Нельзя, однако, только по терминологии, которая применялась, считать такую классификацию чисто физиологической, так как вопрос, какие ткани и почему следует относить к эпителиям продолжал оживленно дискутироваться. И еще многие были готовы считать эпителием любой пласт клеток, что означало чисто морфологическое понимание этого термина.
В этих условиях достижением была демонстрация того, что те же четыре группы тканей можно выделить по чисто морфологическим критериям [Максимов, 1915]. Это совпадение результатов двух способов оценки означало, что между физиологическими и морфологическими признаками имеются устойчивые корреляции. А. А. Максимов, однако, остался на «монистических» позициях и полагал, что чисто морфологическая классификация достаточна.
Принципиально важный шаг вперед сделал академик А. А. Заварзин. Он преодолел противопоставление физиологического морфологическому подходу, показав, что структуру и функцию ткани надо учитывать одновременно. И этот способ оценки естественный, так как структура и функция находятся в соответствии. Поэтому два ранее конкурировавшие подхода к общей оценке и классификации тканей не альтернативны, а принципиально совпадают. Следствием оказалось верное понимание природы эпителиев как пограничных тканей и выделение группы опорно-трофических тканей (что, конечно, точнее, чем термины «ткани внутренней среды» или «соединительные ткани»).