Эпителиоподобная ткань возникла из наименее дифференцированных клеток
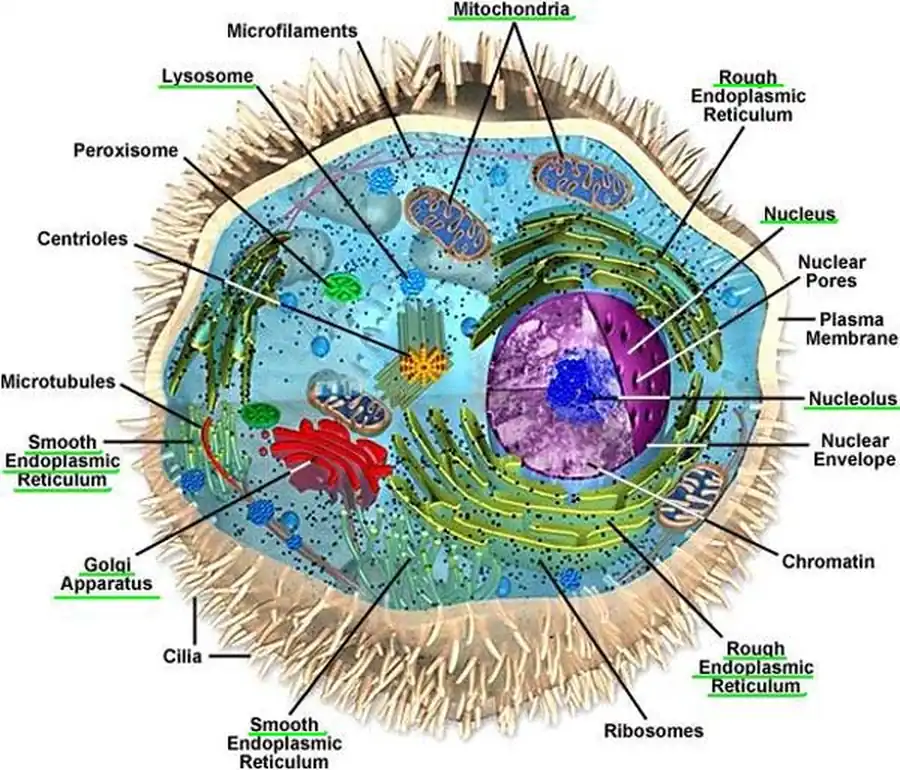
Важнее, однако, другой вопрос: если мы сеем ткань А, и получаем при дифференцировке культуры, кроме ткани А, также ткани Б и В, то как эти последние относятся к филогенезу ткани А? И что, собственно, происходит?
Наблюдаем ли мы разные фенотипы одной детерминации или варианты гистогенеза? Уже упоминавшаяся работа Нага [Nag, 1978], где было показано, что в эксплантатах миокарда эмбриона эпителиоподобная ткань возникла из наименее дифференцированных клеток, заставляет думать, что «не предусмотренные программой» дифференцировки — результат абберантных гистогенезов. При этом сохраняются две возможности:
1. Гистогенез продолжается от той точки, до которой он дошел на момент взятия материала. Но in vitro гистогенез уклоняется от нормального течения, что и приводит к результату, отличающемуся от должного быть in vivo. Во всех случаях, когда сеется не зачаток, а уже определившаяся ткань, такие уклонения дают сведения больше о пределах пластичности ткани, чем о тканях предка, предшествовавших изучаемой ткани.
2. В посеянной ткани возрастает число малодетерминированных клеток, ткань становится менее зрелой. В этом случае ее дифференцировка может проявить либо еще более грубое уклонение, либо остановится на стадии более ранней, чем была в посеянной ткани. Только в последнем случае возможно воспроизведение анцестральной ткани. Не исключено, что наблюдались в разных случаях различные исходы.
Сказанное не умаляет ценности полученных результатов и важность того факта, что многие ткани, сходные в дефинитивном состоянии, в культурах растут различным образом; и этим различиям имеются филогенетические параллели. Мы лишь хотим сказать, что определение родства тканей по результатам культивирования без тщательного анализа данных сравнительной гистологии и без рассмотрения тех процессов, которые приводят к трансформации культуры, ведет к ошибкам. Данные сравнительной гистологии должны быть дополнены данными о результатах культивирования, а не наоборот.