Морфологические преобразования неизбежно сопровождаются и изменением функций
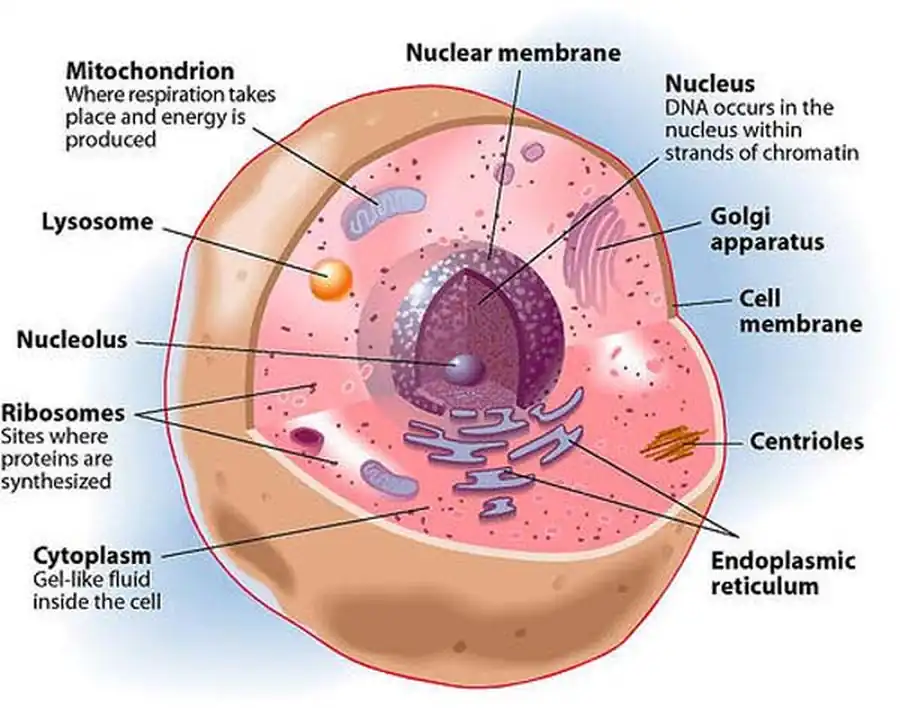
Если механизм смены интегральной детерминации ткани при метаплазии именно таков, то утверждение, что метаплазию можно доказать только на однородных популяциях клеток [Вахтин, 1968) неверно и подменяет предмет обсуждения.
Меньшая часть тканей состоит из одной только популяции клеток, и изучая трансформации популяций, мы не получим сведений о свойствах гетерогенных тканей, где механизм внутренней регуляции будет сложнее, чем в однородной популяции клеток. Популяция, например, механоцитов — не что иное, как рыхлая соединительная ткань.
Кроме проблемы воспроизводимости метаплазий существуют и понятийные затруднения. Н. Г. Хлопин и его последователи в оценке генетической принадлежности тканей использовали способность тканей при культивировании превращаться в иные формы. Метаплазия как-будто допускается. Но вопреки этому как раз в рамках эволюционных оценок и генетической классификации тканей сложилось особенно негативное отношение к возможности метаплазии. Причина, по-видимому, кроется в терминологических недоразумениях, а недоразумения порождаются двойственным пониманием того, что такое ткань, несовпадением генетического и морфофизиологического понимания ткани.
Как излагалось ранее, в генетическом смысле костный мозг и костная ткань — одна склеротомная ткань. При таких критериях преобразование склеротомной ретикулярной ткани в костную (или плотной соединительной ткани сухожилия в хрящевую) — не метаплазия, так как упомянутые пары суть формы одной склеротомной ткани. Но для больного это, конечно,— метаплазия. Морфологические преобразования неизбежно сопровождаются и изменением функций, и потому пренебречь морфофункциональными критериями при решении вопроса, что есть метаплазия, невозможно. Поэтому метаплазией приходится считать любое морфологическое преобразование ткани, сопровождающееся сменой функций, и неизменное на каком-то отрезке времени (что отличает метаплазию от реактивных состояний, постоянно меняющихся).