Нейроны и глиоциты возникли из клеток одной анцестральной ткани
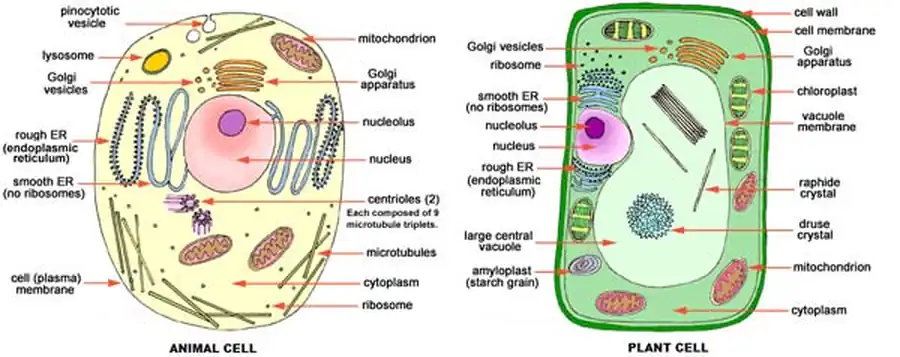
Надо признать, что, во-первых, нейроны возникли раньше нервной ткани и примитивные нейроны у низших беспозвоночных — один из дифферонов примитивных мультифункциональных тканей.
Специализированных глиоцитов на этой стадии эволюции тканей нет. Во-вторых, функциональные особенности нервной ткани связаны в первую очередь со свойствами нейронов. И все же оснований для отделения нейронов от глиоцитов недостаточно. Ставить вопрос таким образом было бы возможно, если бы нейроны и глиоциты на какой-то стадии эволюции тканей развивались самостоятельно, а позже объединились. Но эволюция шла другим путем.
Протонейроны действительно возникли раньше глиоцитов. Но на этой стадии эволюции прочие клетки мультифункциональной ткани, содержащей нейроны, выполняли некоторые функции нейроглии, хотя и не были специализированы таким образом. При зональной специализации покровных тканей у предков хордовых в зоне, превратившейся в нервную ткань, протонейроны стали нейронами, а прочие клетки этой же зоны образовали эпендимную глию. Этот первичный план строения нервной ткани вполне отчетлив у ланцетника и у личинок круглоротых. В спинном мозге этих животных отростки эпендимоцитов пронизывают его насквозь и выполняют все функции нейроглии, так как других глиоцитов, кроме эпендимных, практически нет.
Таким образом, нейроны и глиоциты возникли из клеток одной анцестральной ткани, и в филогенетическом смысле нервная ткань едина. В оптогенезе это единство выражается в том, что источник развития нейронов и глии и здесь один, предполагается даже сохранение в постнатальный период стволовых клеток, способных порождать олигодендроциты, астроциты и нейробласты [Райцина, 1980]. Поэтому в генетическом смысле нейроны и глиоциты, конечно,— компоненты одной ткани. Они образуют конструкцию, единую и в морфофункциональном смысле. Пространственно они объединены самым тесным образом и обеспечивают функции нервной ткани кооперативно. Традиционные представления о нервной ткани в плане ее единства вполне состоятельны.