Эпидермальные черты ряда эпителиев
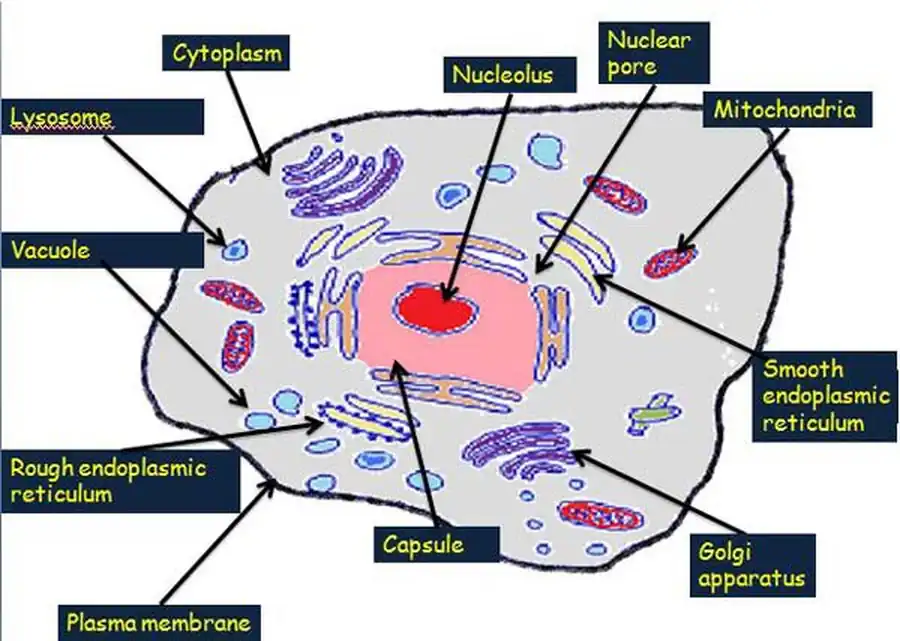
Об эпителиях в целом можно сказать, что сопоставление их филогенеза и источника развития в онтогенезе с дефинитивными свойствами тканей подтверждает ценность генетического подхода.
Однако классификация эпителиев, по Н. Г. Хлопину, требует поправок, так как ряд фактов не получил в ней отражения, поскольку многие скрытые, но, несомненно, анцестральные черты эпителиев не были учтены. В первую очередь это касается гормональной активности эпителиев. Второй источник неточностей — в том, что в классификации Н. Г. Хлопина понятие «эмбриональный зачаток» одновременно и важно и неясно.
О качестве зачатков суждения иногда выносились «задним числом» (по тканям, которые в итоге образуются), без достаточного исследования филогенеза зачатка. Эпидермальные черты ряда эпителиев, возникающих не из кожной эктодермы, отмечены верно. Но вторая, «неэпидермальная», сторона таких тканей не получила оценки [Михайлов, Кнорре, 1982]. По мере выяснения того, что строение «спорных» эпителиев противоречиво, а в ряде случаев их эндокринные функции не характерны для эпидермальных эпителиев, стала очевидной невозможность поддерживать классификацию Н. Г. Хлопина во всех ее пунктах. С другой стороны, общие черты строения, которые не могли возникнуть путем конвергентной эволюции, заставляют учитывать некоторые оценки П. Г. Хлопина.
Но при этом приходится говорить не о смещении зачатка эпидермиса и не о меторизисе, а о влиянии эпидермиса на соседние зачатки эпителиев. Наши предположения о механизме такого влияния могут оказаться неверными. Но смешение в ряде тканей эпидермальных и энтеродермальных черт — несомненный факт. И в любом случае он должен быть учтен и объяснен. Получающаяся при решении такой задачи классификация не может быть «стопроцентно генетической», неизбежны эклектические решения. Но классификация тканей просто по их происхождению — в сущности, и не классификация, а «родословное дерево».