Появление самовоспроизводящихся протобионтов
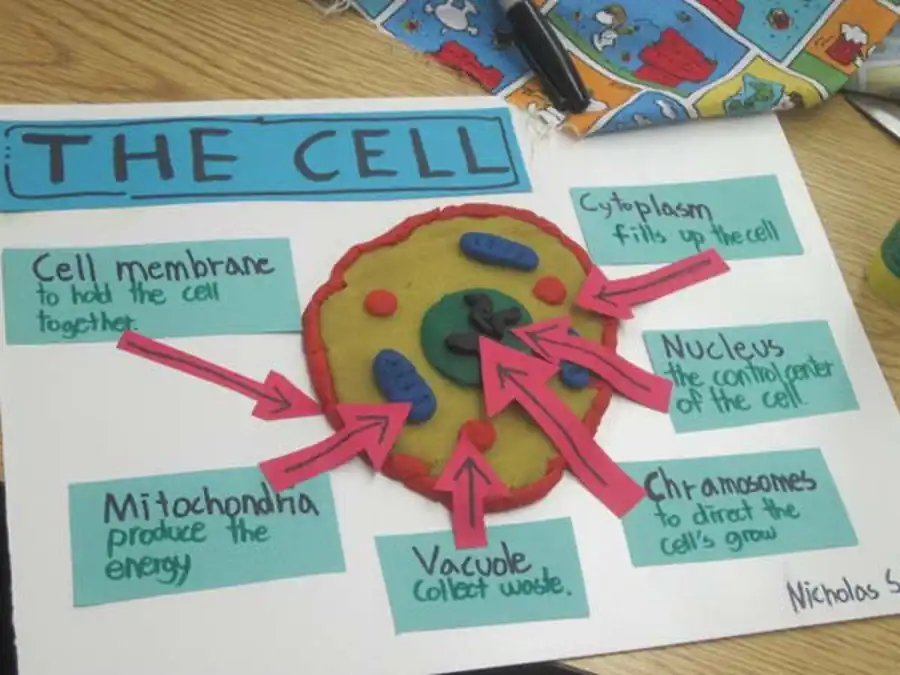
Переломным моментом в жизни протобиосферы должно было стать появление самовоспроизводящихся протобионтов.
Их обмен веществ и вообще жизненная активность не могли быть очень медленными. Способность полипептидов к спонтанному гидролизу с периодом полураспада от дней до нескольких месяцев [Дозе, 1975] определяет, что протобионты с более медленным самообновлением просто не могут выжить. Во всем, что касается протобионтов и протобиосферы, много неясного. Но даже в этих условиях ориентировочные расчеты полезны.
Приняв, что самовоспроизводящийся протобионт первоначально был единственным, имел массу среднего коацервата [Евреинова и др., 1975], делился раз в год, и все дочерние бионты выживали, в зависимости от оценок ресурсов органического вещества на Земле [Камшилов, 1974; Дозе, 1975], получим, что запасы органики были исчерпаны за несколько десятков или сотен лет. Конечно, часть протобионтов должна была погибнуть. Расчеты лишь показывают, что ресурсы для гетеротрофного питания в любом случае исчерпались за период времени, который в масштабе длительности докембрия ничтожен.
После использования 'тих запасов протобионты испытали дефицит пластических веществ и дефицит энергии (абиогенный синтез макроэргических соединений с исчезновением из воды субстратов также прекратился). Вряд ли дефицит питательных веществ был абсолютным, вероятно, эти вещества не все сразу сосредоточились в океане, и приток их с суши в водоемы позволил протобионтам выжить.
«Эра голода» направила эволюцию всех протобионтов в сторону расширения набора синтезируемых веществ и развития фотосинтетического аппарата. Возможность появления протобионтов-хищников маловероятна из-за простоты первичных организмов. Энергообеспечение за счет использования света возможно, так как не было других источников. Гипотеза о том, что энергию поставлял анаэробный гликолиз, заставляет предполагать дефицит в биосфере субстратов гликолиза вместо дефицита абиогенной АТФ.