С ними и без них
- 30.09.2010
С ними и без них
Не раз и не два слышал я такого рода суждения: «Вот говорят, пишут, что наука теперь все знает и все может. А почему же не изничтожат химией всю мелкую нечисть, от которой люди хворают и помирают, микробов разных. Вон, слышно, еще новая болезнь объявилась — от вирусов. Название такое, что не упомнишь.

И лечить не знают как. Вот тебе и наука!..»
Такие разговоры заводят большей частью пожилые тетки, которые начисто забыли школьные уроки биологии либо вовсе их не посещали. Но нет-нет да и от молодых услышишь нечто подобное. Напирают на всесилие, на могущество человека, который-де способен сотворить в природе все, что ему в данный момент потребно. Способен, может и должен!..
Но не все человек знает и не все может. Да, по правде сказать, иной раз про себя скажешь: оно и хорошо, что не все может!.. А если бы знал, если бы мог? Тогда следом возникает и такой вопрос: а надо ли очищать планету от микробов? Вправе ли человек изничтожать то, что не им создано, что природа сотворила на несколько миллиардов лет раньше, чем явился на свет — по воле природы же — сам человек?
Не будем торопиться с ответом на эти весьма непростые вопросы. Познакомимся сначала с микробным царством, выйдя несколько за пределы школьной программы по биологии.
Еще задолго до открытия Левенгука возникали то и дело смутные догадки о существовании некоего невидимого, неосязаемого мира, который служит источником болезней. Великий древнегреческий врач Гиппократ, живший в V—IV веках до нашей эры, объяснял возникновение эпидемий тем, что в воздухе появляются особые заразные испарения — миазмы (в переводе с греческого «загрязнения») .Современник Гиппократа историк Фукидид говорил, что повальная болезнь (видимо, чума), объявлявшаяся время от времени в Греции, вызвана «живыми контагиями» (слово «контагии» можно перевести с латыни как «соприкосновения»). Марк Теренций Варрон, «отец римской учености», автор пятисот книг на разные темы, писал в I веке до нашей эры, что «тяжелые болотные заболевания» вызываются «очень мелкими животными, невидимыми глазом, которые растут на болоте и влезают в человека через рот и нос». Видимо, Варрон имел в виду малярию.
И после открытия Левенгука далеко не сразу была понята роль микроорганизмов в природе, хотя догадок об их причастности к болезням высказывалось немало. Вот, например, рассуждения венского врача Антони Пленгица (1762 год): подобно тому как определенное растение может произрастать только из семян того же растения, так и оспа может возникнуть только из семени оспы, скарлатина — только из семени скарлатины; гниение наступает тогда, когда в загнивающем теле начинают развиваться и размножаться зародыши червеобразных существ.
В 1792 году вышла в свет книга русского врача Данилы Самойловича «Краткое описание микроскопических исследований о существе яду язвенного». Читаем: «Яд язвенный... состоит из некоего особливого и совсем отменного существа, о коем никто прежде не знал, и которое ныне исследовано мною через точнейшие микроскопические и иные наблюдения».
Дорогой ценой доставались бесстрашному врачу эти «иные наблюдения». Он работал на чумных эпидемиях, изучал трупы. Остался при этом в живых, хотя вскрывал гнойные бубоны (опухоли), набитые чумными бактериями. Заразившись на одной из эпидемий, Самойлович перенес болезнь в легкой форме, что бывает весьма редко, и, таким образом, уцелел. Сам он объяснил чудо своего спасения очень верно. Работая незащищенными руками (резины, из которой делают перчатки, тогда еще не было), он незаметно для себя втирал гной в царапины на пальцах и таким образом делал себе самопрививки, спасшие его от гибели. И лишь через сто два года после издания книги Самойловича два исследователя, французский ученый А. Иерсен и японский С. Киагазато, почти одновременно отыскали возбудителя чумы, которому дали в честь Пастера латинское имя — пастерела пестис.
Царство микробов неохотно открывало науке свои тайны. Даже в середине прошлого столетия, когда накопилось уже довольно много достоверных сведений о микроорганизмах, писалось иногда невесть что. В труде немецкого врача Гезера «История повальных болезней» в числе причин, вызывающих эпидемии, названы землетрясения, солнечные затмения, а также «испорченный воздух».
Некоторые наблюдения Левенгука нашли верное истолкование через полтора, а то и через два столетия после того, как голландец известил о них, об этих наблюдениях, Лондонское Королевское общество.
Разглядывая в свой микроскопиум капли две пивного сусла, взятого в стеклянную трубочку, Левенгук различил в нем какие-то шарики. И откуда ему было знать, что они живые? Шарики не сновали взад-вперед, подобно «зверькам», которых он углядел в дождевой воде. Лишь через полтора века высказана была догадка, что эти шарики суть микробы, возбуждающие брожение. Догадка на какое-то время осталась догадкой, тем более что тогдашние химики, в том числе и такие выдающиеся, как Берцелиус и Либих, уверены были, будто брожение — чисто химический процесс и микроорганизмы к нему не причастны.
Однако нашелся вскоре ученый, тоже химик по образованию, который доказал, что левенгуковские шарики — это дрожжи, микроорганизмы, вызывающие брожение. Им был Луи Пастер, основоположник двух наук — микробиологии и иммунологии, изучающей защитные силы организма.
Заинтересовавшись брожением (это было в 1857 году), Пастер начал с того, что стал разглядывать под микроскопом кислое молоко и обнаружил в нем шарики и палочки. Шарики были меньше тех, которые он, а до него Левенгук видели в пивном сусле. Вскоре Пастер убедился, что шарики и палочки растут, а число их становится все больше. Значит, они размножаются, они живые! Пастер затем поставил опыт, с нашей, теперешней, точки зрения простейший, проделываемый миллионами женщин в домашней кухне. Добавив малое количество скисшего молока в свежее, он убедился, что свежее молоко благодаря этому быстрее сквашивается, скисает. Так были открыты бактерии, вызывающие молочнокислое брожение.
Заслуги Пастера перед человечеством огромны. Один из его учеников так сказал о нем: «После того как первобытный человек перестал бояться лесного зверя, в истории цивилизации не было сделано более решительного шага, чем тот, который сделал Пастер, научив людей бороться с еще более опасными и вездесущими микробами».
Молоко, приносимое нами в бутылке из магазина, пастеризовано. Это означает, что его можно безбоязненно пить некипяченым, ибо оно обеззаражено по методу, предложенному Пастером: молоко нагрели до 60—70 градусов Цельсия; при такой температуре болезнетворные бактерии погибают. Этим же методом обеззараживают вино, пиво и другие жидкости, равно как и многие пищевые продукты.
Пастер положил начало науке микробиологии. О его открытиях и о нем самом как человеке и ученом написано много книг. Напомню об одном из его открытий, пожалуй, самом драматичном, когда Пастер проявил и блестящее мастерство ученого, и высокое человеческое мужество.
Бешенство — одна из тех немногих болезней, которые приводили человека к безусловной гибели. Хоть и нечасто, но люди оставались в живых, перенеся холеру, даже чуму. Про бешенство знали с древнейших времен: тут смерть, причем мучительная и неотвратимая.
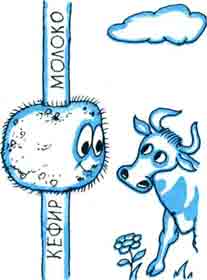
В средние века заболевших бешенством иногда умерщвляли, чтобы избавить их от мучений. Возбудителя бешенства найти, узреть не удавалось. В начале прошлого века дознались только, что болезнь передается через слюну. Чаще всего люди заболевали после укусов бешеных собак...
В июле 1885 года девятилетний Жозеф Мейстер был доставлен матерью из Эльзаса в лабораторию Пастера. Мальчика искусала собака. У него насчитали четырнадцать ран. В том, что собака была бешеной, сомнений не возникало. Ее удалось застрелить, и при вскрытии в желудке у нее нашли куски дерева, солому, то есть то, что заглатывает обычно только пес, страдающий бешенством.
Пастер и его сотрудники Ру и Шамберлен к тому времени завершили изучение бешенства и создали прививку против этой страшной болезни. Позади было пять лет напряженной работы. Ведь ни Пастер, ни его помощники не могли знать, что возбудитель бешенства не микроб, не бактерия, а вирус. Дмитрий Ивановский, петербургский ботаник, первооткрыватель вирусов, выступил с сообщением в Российской Академии наук позднее, в 1892 году.
Убедившись, что возбудитель бешенства не желает размножаться на питательных средах вроде куриного бульона и не может быть обнаружен при помощи микроскопа, ученые принуждены были искать его в мозгу животных, погибших от бешенства. Работали на кроликах, на баранах, на собаках. Добились наконец, что ослабленный возбудитель, введенный подопытным собакам, надежно защитил их от смертельной дозы заразного начала, взятой от только что погибшего животного. Конечно, Пастер и его помощники подвергали себя при этом большому риску.
Ну а человек? Можно ли ему сделать предохранительную прививку, да еще после укуса?..
На раздумье нет времени. Перед учеными Жозеф Мейстер. Каждая из его ран почти наверняка гибельна. Пастер пригласил группу врачей и спросил у них: вправе ли он вводить человеку вакцину, которая вводилась дотоле только животным? Один из приглашенных, профессор Транше, осмотрев Жозефа, сказал, что мальчик обречен; если есть хоть малейшая надежда спасти его, то вакцину надо вводить. Он, Транше, готов это сделать сам. И в присутствии Пастера Транше ввел Жозефу полшприца костного мозга кролика, погибшего от бешенства. После этого мальчику сделали еще тринадцать инъекций, вводя каждый раз более свежий, то есть менее ослабленный, материал.
По окончании курса прививок мать увезла Жозефа домой. Пастер еще долго забрасывал эльзасского
врача запросами о состоянии мальчика. И получал в ответ неизменное: «Здоров».
Итак, первый человек, зараженный бешенством, спасен от гибели! Но до полного торжества еще далеко. Недоброжелатели — среди них есть и ученые — не умолкают. «Прививки опасны. Они противоречат научной медицине».
И вот — новое для Пастера испытание. Испытание воли, мужества, уверенности в своей правоте...
Вот что произошло осенью того же 1885 года в департаменте Юра. Шестеро мальчиков, пасших коров и овец, вдруг увидели, что на них несется, свесив голову, без лая, огромная собака. Пятеро пустились наутек, а шестой, самый старший, пятнадцатилетний Жан Жупиль, понимая, что от собаки не убежишь, надо прикрыть малышей, остался и, вступив в бой, задушил пса. Но бешеная собака успела нанести ему раны.
Когда это произошло? Шесть дней назад. Не поздно ли?.. Жозефа Мейстера привезли спустя два дня после нападения собаки. Если возбудитель бешенства успел добраться до головного мозга, то прививки не помогут... В какие места нанесены укусы? Это может оказаться решающим. Пастер послал депешу: спешно везите Жупиля в Париж.
Жупиль был спасен! Думаете, недоброжелатели после этого умолкли? Ничуть не бывало. Ведь были у Пастера и неудачи, когда пострадавшего привозили слишком поздно и он погибал, несмотря на прививки.
Одна парижская газета вот даже до чего дописалась: «Человек, укравший серебряные ложки, отправляется на каторгу, а Пастер, убивающий людей, находится на свободе».
Между тем Пастеру удалось спасти четверых детей, искусанных бешеной собакой за океаном, в Нью-Йорке. Везли их в Париж, разумеется, на пароходе. И все-таки успели!
А самые яростные враги Пастера возбудили ходатайство перед прокурором Франции, требуя запрещения прививок от бешенства...
Жан Жупиль через некоторое время после своего избавления от гибели явился к Пастеру с просьбой: «Возьмите меня к себе на какую угодно работу!»
Просьбу уважили. А потом явился и подросший Жозеф Мейстер. И его взяли. Оба трудились в институте Пастера до конца жизни. Жупиль одно время исполнял должность препаратора у выдающегося русского ученого Ильи Ильича Мечникова, работавшего в содружестве с Пастером.
Жупиля уже не было в живых, когда в 1940 году гитлеровские дивизии вторглись во Францию. Мейстер, которому минуло шестьдесят, каждое утро приходил в лабораторию к подопытным крысам, кроликам и морским свинкам, за которыми присматривал. И он не вынес позора Франции. Когда нацистские батальоны вошли в Париж, Жозеф Мейстер покончил с собой.
В России пастеровские прививки против бешенства вызвали особенный интерес. И неудивительно: в стране от этой болезни погибало ежегодно до тысячи людей. В русских лесах всегда хватало волков, главных и наиболее опасных носителей вируса бешенства. В схватках с собаками волки через слюну заражают псов.
Вскоре после первых прививок против бешенства в Париж, к Пастеру, приехал из Одессы молодой врач Николай Федорович Гамалея, впоследствии выдающийся микробиолог, почетный академик Академии наук СССР. Он быстро изучил способ приготовления прививочного материала, равно как и методику прививок против бешенства, которую впоследствии усовершенствовал. И уже летом 1886 года он открыл в Одессе при активном содействии И. И. Мечникова вторую после парижской и первую в России пастеровскую станцию. На первых порах она помещалась в квартире Гамалеи. До конца года здесь были спасены от гибели около четырехсот человек, зараженных бешенством. В том же году пастеровские станции открылись в Варшаве, Самаре, Петербурге и Москве. А к 1912 году число их возросло в России до двадцати восьми.
После открытий Пастера основанная им наука микробиология стала быстро развиваться. Исследователи на первом этапе становления новой науки направили свои усилия на отыскание виновников самых опасных болезней и на изобретение средств защиты от них.
Открытия следовали одно за другим.
Немецкий микробиолог Роберт Кох обессмертил свое имя тем, что уличил обнаруженную им крохотную, слегка изогнутую палочковидную бактерию как возбудителя туберкулеза. Впоследствии бактерию назвали палочкой Коха.
В России туберкулез известен был повсеместно под названием чахотки. Часто болезнь принимала скоротечную форму, и от нее погибали молодые люди. Казалось, род людской вот-вот будет избавлен от коварной болезни, тем более что Кох не только открыл возбудителя туберкулеза, но и предложил изобретенное им лекарство для борьбы с болезнью — туберкулин. Главное — обнаружил виновника, точнее, виновницу болезни, указал на нее пальцем. И ей, палочке, не дают разгуляться, против нее применяются многие действенные меры. Туберкулез не исчез совершенно, однако умирают от него теперь куда реже, чем в прошлом веке. Иногда говорят, что чахотка постарела; молодые от нее действительно страдают далеко не так часто, как в прежние времена.
Роберт Кох обогатил науку многими открытиями. Он изобличил возбудителя холеры. Гоняясь за виновником этой болезни, он побывал в двух холерных очагах — в Египте и в Индии. Исследовав многих больных холерой и трупы умерших от нее, он доказал, что найденный и изученный им вибрион — бактерия, изогнутая в виде запятой, и есть возбудитель болезни, уносившей с незапамятных времен тысячи и тысячи жизней.
Произошло это важное событие в 1883 году. А в следующем десятилетии русский бактериолог и эпидемиолог Владимир Аронович Хавкин предложил прививки против холеры и чумы. Работая в Индии «на холере и чуме», он провел на себе первые опыты, доказав безопасность вакцин от той и от другой болезни. Хавкин участвовал в прививках, которые по его почину делались жителям Индии. При активном его содействии в Бомбее была открыта первая противочумная лаборатория, преобразованная затем в институт, существующий и доныне и носящий имя Хавкина.
«Мы премного обязаны доктору Хавкину, — сказал президент Индии Р. Прасад. — Он помог Индии избавиться от основных эпидемий — чумы и холеры».
Но не одними только возбудителями болезней занимались микробиологи в конце прошлого века и в начале нынешнего. Развивались и другие области новой науки. Стала выявляться роль обитателей микробного царства в поддержании и развитии жизни на нашей планете. И тут важную роль сыграли голландец Мартин Бейеринк и русский микробиолог Сергий Николаевич Виноградский.
Мартин Бейеринк работал в городе Левенгука. Он был профессором Высшей политехнической школы в Делфте. Он изучал микробов, обитающих в почве, и ему удалось выявить, выделить микроорганизмы, способствующие повышению плодородия почвы и помогающие растению усваивать нужные ему вещества.
Сергей Николаевич Виноградский, почетный член Российской Академии наук, член Французской академии и Лондонского Королевского общества, многие годы возглавлял под Парижем Агробиологический отдел Пастеровского института. Он, как и Бейеринк (они были современники), занимался почвенной микробиологией, и ему принадлежит много крупнейших открытий в этой области. Разгадка роли микробов в жизни почвы принесла Виноградскому, так же как и Бейеринку, мировую славу.
Еще в молодые годы Виноградский сделал удивительное открытие. Он обнаружил способ питания, свойственный лишь некоторым бактериям и дотоле неизвестный науке. Этот способ получил название «хемосинтез» (хемия — древнегреческое наименование химии). Среди бактерий, способных к хемосинтезу, есть и такие, которые быстро растут и могут быть с успехом использованы в микробиологической промышленности для производства различных продуктов.
О микробах наука накопила довольно много сведений, между тем, по оценке специалистов, ученым известна едва ли более чем десятая часть видов царства микроорганизмов. Что ни год, публикуются описания новых и новых видов.
Кто они, населяющие невидимое царство? Это микроорганизмы, микробы. Это — обширная группа одноклеточных живых существ, различимых только под микроскопом. Это — бактерии, микоплазмы, актиномицеты, дрожжи, микроскопические грибы и одноклеточные водоросли. Иногда к ним причисляют и вирусы, хотя они лишены признаков клеточного строения и вообще стоят особняком в царстве невидимых.
Микробы населяют Мировой океан, все решительно пресные водоемы, все лужи и лужицы. В одном грамме почвы или грунта, взятого со дна озерца, может содержаться два-три миллиарда микроорганизмов. Они обитают и в воздухе, в горах, где снега не успевают стаивать, во льдах Антарктиды и Северного полюса, в жарких пустынях. Они отсутствуют, пожалуй, в кратере действующего вулкана да в эпицентре атомного взрыва.
Советский микробиолог В. О. Таусон, изучая высокогорные пустыни Памира, где почвы сухи и бесплодны, находил множество совершенно высушенных бактерий. По наблюдениям ученого, памирские микроорганизмы пребывают в таком вот высушенном состоянии шесть — восемь месяцев в году, а то и более. Стоит только выпасть дождю, и они оживают, начинают расти и размножаться.
Бактерия делится на две новые особи при благоприятных условиях каждые полчаса. Несложный арифметический расчет показывает, что через двадцать часов потомство бактерии при беспрепятственном делении превысит сто девяносто миллиардов особей! Холерные вибрионы способны размножаться с такой скоростью, что за тридцать часов один вибрион мог бы покрыть своим поколением всю планету сплошной пленкой.
Страшновато, не правда ли?!
Но ведь — мог бы!.. Мог бы в идеале, если бы не помехи. Природа ставит преграды безудержному размножению любого вида, будь то слон или бактерия. Главная преграда — бесконечное разнообразие живых созданий. Законы жизни едины, им подчинены равно и слоны, и киты, и одноклеточные водоросли. Распространение любого вида контролируется другими видами. У холерного вибриона в мире невидимых достаточно врагов, сдерживающих его размножение.

Разнообразие видов — хорошо выверенный за миллионы лет инструмент, с помощью которого природа поддерживает в сфере земной жизни порядок, не давая ни одному виду взять верх над другими, внести хаос. И человек, если он хочет сохранить свое видовое название «разумный», ни при каких обстоятельствах не должен это равновесие нарушать. Каждый утраченный либо доведенный до грани исчезновения вид—невосполнимая, невозобновимая потеря. Человеку разумному, хомо сапиенсу, не дано права решать, какие виды полезны, какие вредны, какие надо сохранять, какие изничтожать...
Как-то в воскресный день, весной, отправился я поразмяться в лес. Его опушка совсем близко подходит к новому жилому району Ленинграда (он на северо-восточной окраине города). Было начало мая, и выдались очень теплые дни, что в эту пору нечасто у нас случается. Дойдя до железнодорожной ветки, проложенной через лес, я услышал лягушачий концерт. Он доносился из канав, проложенных вдоль колеи и наполненных талой водой. Лягушки, воспользовавшись внезапно наступившим теплом, справляли свои свадьбы. В канавах уже видны были серые пятна отложенной икры.
И тут мое внимание привлекли трое мальчишек. Они с криками носились вдоль канавы. Один размахивал сачком, второй пытался зачерпнуть лягушку полиэтиленовым мешочком, у третьего в стеклянной банке уже сидела большущая лягушка. А на берегу валялось несколько лепешек выброшенной из канавы лягушачьей икры.
Я подошел к сорванцам.
— Ребята, бросьте это занятие, не трогайте, не пугайте лягушек... А икру ты на берег выбросил сачком?
— Не я, не я! — заторопился владелец сачка. — Тут еще другие были... А вообще, зачем лягушки?
— Да, зачем? — подхватил тот, который с банкой. — Ни к чему они вроде... Пользы никакой от них.
— А вам в школе не говорили про лягушек?
— Нет, нет, — затвердили мальчишки, — не говорили, не говорили...
«Пропустили мимо ушей или вообще врут», — подумал я. А вслух сказал:
— Вопрос «зачем?» мне не нравится. Вот ведь ты не спрашиваешь, зачем мы с вами?
— Ну-у-у!!!
— Вот и «ну»... У природы не допытываются, зачем она создала то или это, тот или другой вид... А чем питаются лягушки, не говорили вам?
Они опять дружно:
— Не говорили, не говорили!..
— Тогда я расскажу, но только если вот ты перед тем выпустишь лягушку из банки в канаву.
Парнишка, помедлив, неохотно выплеснул из банки добычу. Я напомнил ребятам, что главная пища лягушки — летающие насекомые, которых она ловит своим хитроумно устроенным языком: при появлении жертвы он выбрасывается мгновенно, словно по нажатию кнопки, далеко вперед; что лягушки поглощают несметное количество комаров; не будь лягушек, кровососы одолели бы нас совершенно — в лес не войти.
С тем я ушел от мальчишек поглубже в лес. Возвратясь спустя полчаса на то же место, я увидел их на другой стороне железной дороги. Там тоже канава. И ребята занимались тем же делом — орали, лезли в воду, пытаясь наловить лягушек.
Я прокричал им что-то насчет отсутствия совести.
— Дядь, мы ведь все поняли, что вы говорили, — отозвался тот, который с банкой. — Нам же только одну. Поймаем — и домой. Не верите?..
Хотелось поверить. Но оснований было маловато...
Проказники, занятые пакостным делом, могли с легкостью поймать меня на слове простейшим с виду вопросом: «Так что же, никого и трогать нельзя?.. Совсем, совсем никого? А если, например, тараканы одолели?»
Но мальчуганам, конечно, хотелось поскорее отделаться от меня: тут лягухи такие номера показывают...
Однако вопрос, который мог быть задан, совсем не праздный. Вторжения человека в дела природы неизбежны. Но им должно предшествовать глубокое изучение связей, подчас, неожиданных, между видами...
За пять лет, с 1918 по 1922 год, в Советской России переболело сыпным тифом почти двадцать миллионов людей. Многие умерли. Сыпняк, сыпнячок, как тогда говорили, — болезнь нешуточная. Но почему именно в те годы сыпняк так распространился? Ведь после гражданской войны тиф стал быстро исчезать. В наши дни молодежь знает о нем из книг да из рассказов дедушек и бабушек. Ответ прост: в гражданскую войну сыпняк имел надежную союзницу.
Возбудитель сыпняка — крохотная бактерия из семейства риккетсий. Некоторые из риккетсий не превышают размером крупные вирусы. Поэтому, видимо, виновника тифа долго не могли уличить. Лишь в 1909 году американец X. Т. Риккетс описал впервые одну из представительниц этого семейства — бактерию, вызывающую пятнистую лихорадку у жителей Скалистых гор. А через несколько лет чешский ученый Провацек обнаружил виновницу сыпного тифа, сходную с бактерией, вызывающей пятнистую лихорадку Скалистых гор. Потом стали выявляться и другие представители единой группы, опасные для человека и некоторых животных. Общий признак для заболеваний, вызываемых этими бактериями, — лихорадочное состояние.
Когда слышишь ставшее ходячим выражение «наука требует жертв», то чаще всего приходят на ум охотники за микробами. Риккетс погиб, заразившись в Скалистых горах той самой лихорадкой, возбудителя которой он открыл. Провацека постигла такая же судьба: он умер от сыпного тифа.
В память о погибших во имя науки ученых семейство бактерий, вызывающих тиф и сходные с ним заболевания, назвали риккетсиями, а один из видов этого семейства — сыпнотифозную бактерию — риккетсией Провацека.
Еще в прошлом веке высказывались предположения, что вши — переносчики возбудителей сыпного тифа. В начале нашего века француз Николь, проведя опыты на обезьянах, доказал, что платяные вши — носители и передатчики риккетсии Провацека. Потом и головные вши уличены были в том же. Хрен редьки не слаще... Механизм заражения несложен. Вошь становится заразной, насосавшись крови больного, на четвертый - пятый день. Попав на кожу здорового человека, вошь кусает его и тут же выделяет испражнения, кишмя кишащие риккетсиями. Ощутив укус, человек расчесывает крохотную ранку, втирая в нее бактерии. Дело сделано...
А теперь представим себе обстановку тех лет, когда сыпняк разгуливал по стране, поражая миллионы людей. Шла гражданская война. Фронты были повсюду: на севере, на востоке, на юге. Скопления беженцев на вокзалах. Битком набитые поезда. Мыла не купить. Воду не согреть: нет топлива. Идеальные условия для размножения вшей, стало быть, для распространения тифа.
Нельзя сказать, что род вшиный искоренен повсеместно и навсегда. Попадаются вошки — и платяные, и головные. Но их мало. Повсеместно есть мыло, есть горячая вода, можно белье прокипятить, чтобы убить яйца зловредных насекомых. Мало вшей — мало и риккетсии Провацека. Нет войны, нет разрухи и голода — нет и тифа...
Перечень микробов, опасных для здоровья и жизни человека, длинный. Если же добавить к нему вирусы, то перед нами выстраивается грозная рать, способная поражать все организмы, населяющие планету: род людской, животных, растения.
По счастью, природа позаботилась не только о том, чтобы микроорганизмы не размножались сверх всякой нормы. Она одарила нас замечательной способностью защищать целостность организма, его биологическую индивидуальность. Речь идет о системе обороны, именуемой в науке иммунитетом (от латинского «иммунитас» — «освобождение», «избавление»). Иммунная система отторгает, изгоняет любой чужеродный белок, любую чужеродную клетку, в том числе проникших со стороны микробов и вирусов. Чужак должен быть изгнан! Едва он вторгся, в действие сразу приходят силы защиты. Они стремятся обезвредить тем или иным способом микроб или вирус.
Выражаясь языком военных людей, иммунная система располагает глубоко эшелонированной обороной. Внешний защитный барьер — кожа — предохраняет нас от вторжения многих микроорганизмов. Другой барьер — фермент лизоцим. Он содержится в слезах, в материнском молоке, в слюне, на слизистой носа. Видите как: лизоцим оберегает от микробов наши глаза, грудных младенцев, входные пути, ведущие к головному мозгу, к легким, к пищеварительным органам. И еще барьер — антитела. Они — в кровеносной системе. Если возбудитель болезни или иного сорта чужак, преодолев внешние барьеры, прорвался внутрь, его атакуют антитела. Это — армия защитных белков. Они строго специализированы. Против каждого микроба, вируса в сыворотке крови — свой стрелок. Его оружие строго нацелено.
Есть защита и у растений. Это чехлы на корнях, это смола на стволах деревьев и некоторые другие соединения.
Микробы, правда, способны обходить защитные барьеры человека, животных, высших растений. Особенно легко им это сделать, если, скажем, повреждена кожа у человека, содрана кора на древесном стволе. Микробы могут поселяться у так называемых промежуточных хозяев, как бы выжидая удобного случая, чтобы напасть на человека. Черви, грызуны, птицы, клещи, блохи — это все временные хозяева для микробов и вирусов. Наконец, человек, сам того не зная, может стать бациллоносителем или вирусоносителем. И случается, что носитель, сам не болея, других может заражать.
Иногда микроорганизмы мирно сосуществуют с различными живыми созданиями — к взаимной выгоде. Такое сожительство называют симбиозом. У клещей, сосущих человека и животных, квартируют бактерии, переваривающие кровь. Подобные же микроорганизмы обитают у цикадок, сосущих соки растений. Желтый таракан содержит дрожжи, помогающие ему усваивать серу, которую он почему-то любит.
И еще об иммунитете. Случается, что хорошо отрегулированная, автоматически вступающая в действие система иммунитета разлаживается. Тогда — беда. Ведь иммунитет — самый верный, природой отлаженный защитный механизм. Лекарства лишь дополняют его. Если возникает иммунодефицит, как выражаются специалисты, то заполнить брешь в обороне препаратами очень трудно, а порой и невозможно. Человек может погибнуть — и такие случаи бывают — от любого недуга, с которым организм обычно справляется легко: от простуды, от гриппа, от ангины.
А как предохранить нашу иммунную систему от порчи? Вести нормальный образ жизни; не предаваться никаким излишествам; за версту обходить, например, сомнительные компании, где вам могут дать отведать какое-нибудь одурманивающее зелье. Раз попробовал — лиха беда начало...
Я не все рассказал об иммунологической системе, не все барьеры перечислил. Важно вот что: она имеет собственную свою память. Человек, скажем, перенес когда-то сыпной тиф. Выкарабкался, выжил. Это помечено в памяти, в молекулах. Второй раз не заболеет. На этом основаны прививки, предложенные великим благодетелем человечества Луи Пастером.
Мы не должны, правда, забывать имя английского сельского врача Эдварда Дженнера, который в 1796 году проделал опыт, потребовавший от него огромного мужества. Узнав, что крестьянки, переболевшие коровьей оспой (есть и такая, люди переносят ее легко), не болеют настоящей оспой, поражающей людей, он решил проверить, нельзя ли таким способом оградить вообще любого человека от этой страшной болезни. Проще всего поставить опыт на себе... Но он, как врач, много раз находился в контакте с больными и настоящей оспой, и коровьей. Возможно, что он в результате стал невосприимчив. Достоверность такого опыта на себе была бы сомнительной. Нужен кто-то, кто никогда не был в контакте с больными какой бы то ни было формой оспы. Дженнер выбрал восьмилетнего Джеймса Фиппса и привил ему содержимое пузырьков, возникших у скотницы, заразившейся от коров. Мальчик, как и ожидалось, перенес коровью болезнь легко. После чего Дженнер заразил Джеймса настоящей черной оспой. Врач понимал, конечно, что подвергает риску две жизни — мальчика и свою. Если Джеймс умрет, то Дженнера либо убьют окружающие, либо его суд осудит на казнь, либо он сам вынужден будет покончить с собой...
Фиппс не заболел. А Дженнера ждала всемирная слава. Он стал почетным гражданином Лондона. Русская императрица, жена Александра I, послала ему в дар перстень с крупным бриллиантом. А когда Франция и Англия затеяли между собой войну, то произошел такой любопытный инцидент. Наполеону передали, что от противника поступила просьба освободить одного военнопленного. Император медлил с ответом. Но когда ему сказали, что за пленного просит Дженнер, то Наполеон развел руками: «Ну, Джен-неру я ни в чем не могу отказать!»
К тому времени Наполеон уже ввел в своей армии обязательное оспопрививание по методу Дженнера.
Прививку по Дженнеру называли вакцинацией. «Вакка» по-латыни «корова». Термин прижился: теперь так именуют любые прививки.
Почему же считается, что наука иммунология пошла от Луи Пастера, а не от Эдварда Дженнера? Ученые говорят, что гениальное наблюдение Дженнера лишь удивительный, счастливый случай. Сельский врач из Англии почти на сто лет опередил свой век. Наука на исходе XVIII века еще не готова была к тем обобщениям, которые сделал Пастер.
Очень много сделали для разработки теории иммунитета Илья Мечников и немецкий врач, бактериолог и биохимик Пауль Эрих. Им совместно была присуждена в 1908 году Нобелевская премия.
Илья Ильич Мечников три десятилетия работал в институте Пастера. Приехал Мечников в Париж в 1888 году из России не робким учеником, а вполне сложившимся исследователем. Ему было уже за сорок. Пастер, знавший и ценивший работы Мечникова, предоставил русскому коллеге лабораторию в своем институте, что было знаком наивысшего расположения. Впоследствии, когда Пастера уже не было в живых, Мечников занимал должность заместителя директора Пастеровского института.
Существование многоклеточных безмикробных организмов трудно представить. Микробы обосновываются на коже, на слизистых оболочках младенца еще до того, как он издает первый крик, возвещающий о появлении на свет нового человека. А ведь в родильной палате, как и в операционной, царит чистота. Все обеззаражено, все стерильно. Однако стерильность эта довольно условна. Известно, например, что микробы, обитающие на коже, так прочно закрепляются в потовых и сальных железах, в волосяных мешочках, что никаким мытьем их не удалишь полностью. Даже щетка не поможет. (Из этого не следует, понятно, что мытье вообще бесполезно; мытьем удаляются выделения кожи, ну и, конечно, «чужие» микробы, которые попали на кожу случайно и могут быть опасны.)
Микробов в нашем организме не счесть. Речь идет о числе видов. Для подсчета общего количества микроорганизмов, уживающихся с человеком, потребовалась бы электронно-вычислительная машина. Так вот, о видах. Только лишь в кишечнике человека их насчитывается до четырехсот. Прежде всю эту ораву считали попросту паразитической. Думали, что выигрывают от такого сожительства, навязанного организму природой, только микробы. Новейшие исследования позволили открыть всякие тонкости. Оказалось, что кишечная флора оказывает своему хозяину немаловажные услуги.
Армия невидимых сожителей человека отличается удивительным постоянством: одни и те же виды обитают в одних и тех же местах. И вся эта армада ведет себя пристойно, не вызывая никаких заболеваний. Но при одном условии: если и хозяин соблюдает правила игры. Ну, скажем, человек резко изменил режим питания. В этом случае мирно обитающий в кишечнике микроб может обернуться возбудителем какого-нибудь недуга. Подобное может произойти и в том случае, если человек перенес болезнь, вызываемую вирусом.
Защитные силы организма не дают микробам проникать туда, где им быть не положено. Микроорганизмы, населяющие носоглотку, не прочь бы, как говорится, проникнуть в легкие — путь вроде бы открыт. Но на этом пути большинство из них прилипает к слизистой оболочке носоглотки; кроме того, реснитчатые клетки, выстилающие трахею, неустанно гонят слизь вверх, препятствуя движению в сторону легких. Наконец, уже в области легких чужаки захватываются и уничтожаются особыми, весьма активно действующими клетками...
Может ли человеческий организм, равно как и организм любого животного, существовать без микробов? Ответить на этот вопрос простым «да» или «нет» довольно трудно.
Сто лет назад Луи Пастер первый высказал мысль о том, что существование организмов возможно и без микробов. На эту тему Пастер вел долгие беседы и споры со своим другом Ильей Мечниковым. Спорили скорее всего о частностях, так как Мечников был такого же мнения, что и Пастер. Более того: Илья Ильич в своей парижской лаборатории ставил опыты по выращиванию безмикробных мух, головастиков, цыплят. Дело это весьма и весьма сложное.
Лишь в середине нашего века американским и японским ученым удалось создать условия для роста и размножения морских свинок, мышей и других лабораторных животных, свободных от микроорганизмов. Потом научились растить также безмикробных поросят, телят, ягнят.
В 60-е годы сформировалось научное направление — гнотобиология (от греческого «гнотос» — «известный», «очевидный»). Эта отрасль экспериментальной биологии посвящена выращиванию животных, в организме которых отсутствуют бактерии, вирусы, простейшие, глисты, членистоногие.

Такие животные именуются гнотобиотами. Так же называют стерильных животных, специально зараженных для целей научного исследования только определенными видами микроорганизмов.
Как получают и выращивают гнотобиотов? С помощью операции, именуемой кесаревым сечением. Из матки беременной самки извлекают плод. Сложная аппаратура и совершенные методы проведения операции позволяют сохранить плод таким же безмикробным, каким он был в утробе. Если требуется выращивать безмикробных птиц или насекомых, то их яйца обеззараживают, а затем помещают в стерильный инкубатор. Выращенные в особых камерах, где нет микроорганизмов, гнотобиоты приносят безмикробное потомство. Изолятор, где содержатся безмикробные животные, снабжен особыми устройствами — шлюзами, через которые подаются воздух, вода и пища, очищенные от микроорганизмов. В некоторых странах созданы даже фирмы, которые приготовляют по заказу научных лабораторий пищу для гнотобиотов. Она пропускается через особые фильтры, и фирма гарантирует ее стерильность.
Гнотобиология позволила науке узнать многие тонкости, касающиеся взаимосвязи многоклеточного организма с микробами. Например, доказано, что нормальная микрофлора предохраняет хозяина от некоторых заразных заболеваний. Безмикробное животное отклоняется несколько в своем развитии от нормы. Безмикробные животные служат некими моделями при различных биологических исследованиях. Достижениями гнотобиологии уже пользуется практическая медицина. В изоляторах, свободных от микробов, хирурги могут лечить людей, получивших ожоги, без повязок, что ускоряет заживление. Иногда рождаются дети, у которых ослаблен или вовсе отсутствует иммунитет, наследуемый младенцем от матери. Безмикробный изолятор позволяет выходить такого новорожденного, который в обычной среде, как правило, погибает, не имея защиты от микроорганизмов.
Но особенно важна гнотобиология, тесно связанная с иммунологией, для будущего, теперь уже, можно сказать, ближайшего.
Герберт Уэллс в романе «Война миров» изобразил нашествие марсиан на нашу планету. Пришельцы, вооруженные невиданной для землян техникой, вначале кажущиеся непобедимыми, в конце концов гибнут, сраженные нашими бактериями, которые людям не страшны.
Роман Уэллса вышел в свет в самом конце прошлого века. Тогда события, в нем изображенные, представлялись увлекательной игрой ума талантливого фантаста.
А ныне космическая биология и медицина — это науки, от которых человечество ждет решения злободневных проблем. Множество людей уже побывало в космосе. Недалеко то время, когда человек высадится на Марс. Считается, что на этой планете нет жизни в таких формах, как на Земле. Но не исключено, что там могут быть обнаружены микроорганизмы. Такие они, как наши, земные, либо иные? Если иные, то можно ждать от них неприятностей, если космонавты занесут их на Землю.
Предстоят космические полеты весьма длительные, когда люди будут проводить в отрыве от Земли годы. Конечно, человек отправляется в такое путешествие со своими микробами. Теперь уже доказано, что гнотобиотом человека на долгое время сделать нельзя. Между тем опыты, имитирующие длительное пребывание людей в космическом полете, показали, что число микробов на теле человека в таких условиях возрастает.
Возможно, что под влиянием всяких космических излучений изменяются свойства микробов, населяющих организм. Эти и другие, очень непростые, проблемы предстоит решать науке...
Правы или не правы были Пастер и Мечников, когда утверждали, что существование организмов возможно без микробов? Мы видели на примере гнотобиотов, что да, они были правы. Но за сто лет, прошедших с тех пор, наука получила возможность выведать у природы очень многое. Стало очевидно, что здорового человека, например, нельзя держать длительное время в безмикробном изоляторе. Наконец, наука утвердилась во мнении, что возникновение, развитие, поддержание постоянства жизни на планете немыслимо без микроорганизмов.
Без невидимок невозможен был бы круговорот веществ на Земле. Микроорганизмы не только первопоселенцы, первожители планеты. Они не только древнее любых других организмов. Без них жизнь, во всем ее красочном многообразии, приостановилась бы.
А раз так, то и говорить о необходимости избавиться от микробов бессмысленно. Это было бы покушением на одну из главнейших основ жизни.
