От провизора до фермера
- 30.09.2010
От провизора до фермера
В живой язык постоянно вторгаются новые слова; уходят из него, забываются отжившие, устаревшие. «Провизор», к примеру. Словарь поясняет, что по латыни это — «заготовляющий». Термин вошел в обиход в давние времена, когда аптекарь сам приготовлял все лекарства, за вычетом, быть может, касторки. Ныне слово «провизор» можно встретить разве что в книгах, изданных в прошлом веке либо в начале нынешнего. Видится очкастый старикан в белой шапочке и халате, растирающий за своей конторкой в фарфоровой ступке какие-то снадобья. Некоторые лекарства и теперь приготавливаются в самой аптеке, правда, не старичками, а девушками, окончившими фармацевтические школы. Но большую часть препаратов приготовляют на фабриках и продают в готовом виде.
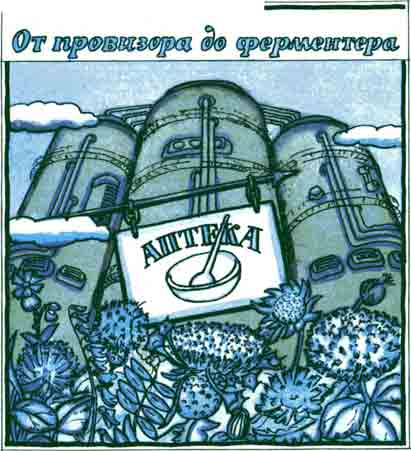
Наиглавнейшие лекарства, без которых современная медицина не могла бы справиться с недугами, угрожающими жизни людей, изготовляются ферментёрами. Ферментёр?.. Слово это пока что знакомо лишь узкому кругу лиц. Ферментёр (иногда говорят «ферментатор») — это не человек, не название профессии, а довольно сложный аппарат. Он бывает и мал по размерам, и огромен. Ему прочат большое будущее. Я бы назвал его Большим провизором, хотя он умеет приготовлять не только лекарства.
Как и всякий механизм, ферментёр — создание неодушевленное. Но не безусловно! Как так? Ведь автор предварил читателя, что фантастики в книге не будет. Передумал? Нет. Просто, создавая ферментёр, инженеры и ученые соединили в нем воедино неживое с живым. Технология такова, что аппарат может выдавать готовый продукт, лишь действуя совместно с живыми организмами, способствуя их высокой производительности.
Аппарат обручили с живыми созданиями?! Да, придумано что-то в этом роде. Такая машина могла бы и в самом деле показаться порождением фантазии во времена не такие уж давние. А в наши дни это реальность.
Но давайте по порядку.
Открытие лечебных свойств пенициллина — выдающееся событие, положившее начало революционному перевороту в медицине. Врачи получили возможность спасать людей от таких недугов, которые прежде неизбежно приводили к гибели больных.
В 1942 году наша страна получила свой пенициллин. Добыт он был микробиологом Зинаидой Виссарионовной Ермольевой. Она использовала не тот вид пенициллина, с которым работал Флеминг, а другой, более продуктивный — пенициллин с золотистым пигментом (хризогениум).
Пенициллин Ермольевой спас жизнь тысячам и тысячам советских солдат, сражавшихся с гитлеровским войском. Очень многие из тех ветеранов, что отмечены нашивками за ранения, не вернулись бы домой, полегли бы навеки в землю, если бы в госпиталях им не вводили это чудодейственное лекарство, извлеченное из плесени. Множество людей спасает пенициллин и в мирные дни. Теперь нечасто услышишь, например, что человек умер от воспаления легких. В допенициллиновую эру пневмококк, возбудитель крупозной пневмонии, то и дело приводил людей к гибели.
Плесени, как мы уже знаем, относятся к грибам. И вот в каких выражениях поносил все грибное царство в начале прошлого века француз С. Вейан: «Грибы — проклятое племя, изобретение дьявола, придуманное им для того, чтобы нарушить гармонию остальной природы, созданной богом». Удивительно то, что Вейан был ботаником. Подобная запальчивость, как правило, ученым не свойственна. Мы читаем теперь эту хулу с недоумением, хотя знаем, что далеко не все грибы полезны, далеко не все безобидны, а многие даже весьма опасны. Земледелец, у которого ржавчинный гриб поразил пшеничное поле, споловинив урожай, находит против такой напасти слова и покрепче тех, что высказал почти два века назад раздраженный чем-то француз. Снежная плесень поражает озимые злаки, пшеницу, рожь, а также многолетние травы, выращиваемые на корм скоту. Агрономы, экономисты, руководители хозяйств, подсчитав вред, причиненный нивам грибами, хватаются за голову. Но, поостыв, приходят к выводу, что сами виноваты. Ведь наука внушает им, что можно уберечь хлеба от напасти. Наипервейшее средство — пользоваться сортами, которые не боятся грибной заразы. Такие сорта селекционерами выводятся...
В 40-е годы текущего столетия американский микробиолог Зелман Ваксман, исследуя обитающие в почве лучистые грибки — актиномицеты, обнаружил, что они выделяют вещество, губительное для многих болезнетворных микробов, возбудителей крайне опасных болезней. Его назвали стрептомицином, это вещество. Стрептомицин оказался способным подавлять виновников чумы, дизентерии, брюшного тифа, туберкулеза.
Как и Флеминг, Ваксман за свое открытие удостоен был Нобелевской премии. Он стал членом Национальной академии США.
По предложению Ваксмана в научный обиход ввели термин «антибиотики». Так называют вещества, образуемые микробами и способные в самых малых количествах угнетать или убивать другие микроорганизмы, а также клетки злокачественных опухолей. Термин представляется некоторым ученым не вполне удачным. «Анти» по-древнегречески «против», «биос» — «жизнь». Против жизни?! Но ведь антибиотики, напротив, спасают людям жизнь. Однако они убийцы микробов, которые ведь тоже живые создания. Так или иначе, слово «антибиотики» утвердилось в науке, в медицинской практике, вошло в житейский обиход. И вряд ли есть смысл, считают ученые, придумывать что-либо иное...
Лучистые грибки наряду с плесенями стали главнейшими производителями антибиотиков. Около восьми десятых известных науке антибиотиков добыты из актиномицетов. Плесени нам уже знакомы, а вот кто такие лучистые грибки, или актиномицеты? В сравнении с плесенями и многими другими микробами они упрощенные создания.
Наука делит микромир на эукариотов и прокариотов. Эукариоты (от греческого «эу» — «хорошо», «полностью» и «карион» — «ядро»), как и все высшие животные и растения, содержат в клетке ядро, заключенное в оболочку — мембрану; в нем, в ядре, несколько хромосом, носителей генов; клетки эукариотов имеют митохондрии — крошечные тельца, по внешнему виду схожие с сосиской, уменьшенной в миллионы раз; митохондрии — аккумуляторы, обеспечивающие клетку энергией. Есть в клетке эукариотов и другие органоиды, свойственные высшим животным и растениям. Прокариоты (от латинского «про» — «перед», «раньше», «вместо» и греческого «карион» — «ядро»), к которым относятся и актиномицеты, лишены клеточного ядра; у них только одна хромосома, в которой заключена вся наследственная — генетическая — структура. Прокариоты, по современным взглядам, принадлежат к самым древним обитателям нашей планеты. Возможно, что они появились на Земле уже три миллиарда лет назад. И они не просто очень древние. Они играют важную роль в природе, в круговороте веществ.
Первые сведения об актиномицетах появились в конце прошлого века, когда среди разнообразных обитателей почвы ученые обнаружили микробов, снабженных ветвящимися нитями, нередко расходящимися в виде лучей. Отсюда и название «лучистые грибки». К настоящему времени описано и зачислено в систематику приблизительно шестьсот семьдесят видов лучистых грибков. Они участвуют в создании плодородия почв и в их оздоровлении. Но почвоведение, если можно так выразиться, наука тихая, открытий, ошеломляющих широкую публику, здесь, пожалуй, и не бывает. Героями дня лучистые грибки стали, когда выяснилось, что они — главные производители антибиотиков. Они способны также продуцировать — выделять — гормоны, витамины, ферменты, аминокислоты, вещества, ускоряющие рост растений.
Итак, наступила эра антибиотиков. Тысячи исследователей (среди них были не только микробиологи, но и биохимики, и ученые, представляющие новую науку — молекулярную биологию, и, конечно же, медики) предпринимали поиски новых антибиотиков. К настоящему времени их насчитывают, по разным источникам, не то пять, не то шесть тысяч. В медицине используется лишь малая их часть.
Возникли споры, не завершённые и доныне: что они такое, эти вещества, вырабатываемые микроорганизмами и губительно действующие на обитателей третьего царства? Для практической медицины, быть может, достаточно установить факт: лучистые грибки, скажем, вырабатывают вещества, убийственные для многих болезнетворных микробов. Ученому этого мало. Ему надобно знать, какова роль антибиотиков в природе.
Советские и многие зарубежные исследователи считают, что способность производить вещества, угнетающие или убивающие другие создания, — полезное для вида приспособление, выработанное в ходе длительного развития. В мире микробов тесно — вон их сколько содержится в почве. И в борьбе за существование оборонительное, защитное оружие дает виду определенные преимущества. Такая точка зрения представляется бесспорной. Для чего пчеле яд? Для защиты роя, пчелиной матки от чужеродных вторжений. Змее — для быстрого умерщвления жертвы, для отражения атак врагов, которых у нее предостаточно. Так и тут, в мире микробов.
Но внешнее сходство, подобие, не всегда доказательно. Есть и другая точка зрения на роль антибиотиков, прямо скажем, неожиданная, противоречащая вроде бы здравому смыслу: они, антибиотики, — отбросы, отходы обмена веществ микробов, не играющие приспособительной роли в жизни вида. Такое суждение высказал 3. Ваксман (он умер в 1973 году). Его мнение разделяют и теперь некоторые ученые. Доводы у них такие: антибиотики образуются далеко не всеми видами микроорганизмов; эти вещества очень быстро теряют свою силу — инактивируются.
Наука шаг за шагом постигает сущность многообразных и весьма сложных взаимоотношений, установившихся в царстве микроорганизмов. И пока идут споры о характере взаимоотношений, человек с пользой для себя использует одну из их форм — то, что принято называть антагонизмом, враждой. С этим явлением, на которое первым обратил внимание Луи Пастер, и связано открытие антибиотиков. Изучение других форм, связей в мире микробов — можно в этом не сомневаться — приведет к другим открытиям...
Спрос на антибиотики начиная с 40-х годов непрерывно растет. Вначале эти препараты стоили очень дорого, так как выделять и очищать их было весьма сложно (вспомним, каких усилий и времени потребовала очистка пенициллина). Антибиотики получали методом так называемой поверхностной ферментации. Микробов, выделяющих антибиотики, выращивали в плоских бутылях, названных матрацами. Производительность такого матраца была весьма невелика, так как микробы в нем могли развиваться только на поверхности питательного бульона. Чтобы добыть хоть сколько-нибудь достаточное количество антибиотика, требовалось великое множество матрацев. Да ведь каждый матрац после слива культуральной жидкости надо мыть, стерилизовать, заполнять свежим бульоном и лишь потом засеивать микробами.
Надо было что-то придумать взамен матрацев. Соединение усилий инженеров и ученых разных специальностей дало свои плоды: родился на свет ферментёр, он же ферментатор.
Название аппарата происходит от слова «ферментация» (латинское «ферментум»—«брожение», «закваска»). Микроорганизмы, заключенные в ферментёр, сами производят — продуцируют — ферменты самого разнообразного назначения. Ферменты, как известно, узкие специалисты: каждый управляет какой-нибудь одной реакцией.
...И вот я стою перед ферментёром. Это стальной котел, наглухо закрытый, с внешним миром его соединяют лишь разнообразные трубки. Он не шумит, не лязгает, подле него можно разговаривать вполголоса. Лишь легкое шипение изредка стравливаемого пара свидетельствует, что котел в действии. Ферментёр невелик, он установлен не на заводе, а в научно-исследовательском институте антибиотиков. Находится институт в Ленинграде, размещен на Фонтанке, в старинном здании времен Екатерины II с толстенными стенами и высоченными окнами. В институте пятьсот пятьдесят сотрудников. Специальности: биологи, микробиологи, биохимики, физико-химики, медики, фармакологи, токсикологи, иммунологи, экологи; а всего — два десятка профессий.
У ферментёра — двое в белых халатах: Эмма Николаевна Соколова, кандидат биологических наук, она заведует лабораторией биологического синтеза, и Виктор Алексеевич Решетов, кандидат технических наук, заведующий лабораторией процессов и аппаратов. Дополняя друг друга, они объясняют, как устроен ферментёр и что происходит в наглухо отгороженной от внешней среды его утробе.
Бактерии, дрожжи, плесени, участвующие в производстве антибиотиков и других весьма важных для нас с вами веществ, мы вправе рассматривать как крохотные живые машины. Создание подобных машин человеку пока что не под силу. Ведь они, бактерии, «работают» на молекулярном уровне и непостижимо идеально для этой цели устроены. Они не только создают нужный нам продукт, но и копируют себя, то есть попросту размножаются. Это непрерывное производство, где нет никаких отходов. Миллиарды микробов, действующих в ферментёре, являют собой, сочетают в себе и сырье, из которого добывается нужный продукт, и отлаженный механизм для его переработки, и, как уже сказано, самовоспроизводящийся живой организм, повторяющий себя путем простого деления.
Изолированные в стальном котле, миллиарды живых машин могут работать долгие месяцы, непрерывно выполняя сложнейшие химические превращения. Можете назвать это чудом, если хотите. Но чудеса сплошь и рядом становятся реальностью. Такой реальностью сделалось внедрение микроорганизмов в технологию, результатом чего явилось бурное развитие биотехнологии.
Но как же устроен ферментёр, олицетворяющий эту новую технологию, где столь хитроумно сочетаются инженерия и биология? Представим себе металлический стакан емкостью в 100 тысяч литров жидкости. На родине первооткрывателя микробов Левенгука, в Делфте, голландская компания, выпускающая антибиотики, установила четырнадцать таких стаканов-ферментёров. Впрочем, японцы перещеголяли голландцев, воздвигнув в городе Хофу двадцать ферментёров, каждый из которых, высотой с десятиэтажный дом, вмещает 238 тысяч литров питательной смеси. Но принцип действия всех ферментёров— и японских, и голландских, и того, с которым я знакомился в Ленинграде на Фонтанке, — един. Ферментёр — аппарат для глубинного выращивания, культивирования микроорганизмов. В отличие от стеклянного матраца, где микробы развивались только на поверхности питательной среды, в ферментёре они заполняют всю толщу жидкости. Если высота стального цилиндра — 30 метров, то все его нутро, от дна до верхушки, заполнено миллиардами, быть может, триллионами живых созданий, каждое из которых действует, вырабатывая ценнейшее вещество (антибиотик, либо витамин, либо гормон) и размножаясь.

Конечно же, в ферментёре создаются наилучшие условия для жизнедеятельности микроорганизмов. Во-первых, во-вторых, в-третьих, если хотите, — стерильность. Питательная смесь засеивается одним штаммом (штамм не просто вид, это семья, раса, племя) микроба, отвечающего определенным требованиям. Скажем, этот штамм вырабатывает наибольшее количество новой разновидности пенициллина. Воздух, непрерывно нагнетаемый внутрь цилиндра, обеззаражен, очищен от микробов. Те, что внутри, избавлены от конкурентов. Непрерывно работает мешалка, снабженная электрическим приводом. Благодаря ей микробы равномерно размещены по всей смеси. В ферментёре автоматически поддерживается наилучшая для микробов температура. Вообще все технологические операции в аппарате управляются автоматически. Приборы, размещенные на пульте, следят за соблюдением установленного режима.
Лабораторные ферментёры малых размеров изготовляют иногда из жаростойкого стекла. Заводские аппараты делают из нержавеющей стали. Они снабжены так называемой паровой рубашкой, которая способствует поддержанию температуры внутри ферментёра на постоянном уровне.
Чем же питаются миллиарды крохотных созданий, заточенных в ферментёре? Вкусы у микроорганизмов разные. И каждому виду надо угодить. Это ведь не то что у химиков, которые пользуются готовыми реактивами, состав которых в точности известен. Микробиологу надо сначала узнать, что по вкусу его подопечным. А среди микроорганизмов попадаются редкостные привереды. Понятно, что, прежде чем водворить тот или иной штамм микробов в ферментёр, ему подбирают питательную среду в лаборатории. А когда дело доходит до массового промышленного выращивания микроорганизмов, то тут уже стараются изобрести питательную среду не столь изысканную. К примеру, дрожжи, которые служат белковой и витаминной добавкой в корм для коров, выращивают на парафинах нефти и на отходах лесохимических предприятий: опилках, щепках и так далее.
Во всяком случае, микробы свой корм окупают с лихвой. Ежегодно на наши животноводческие фермы доставляют тысячи и тысячи тонн белково-витаминного концентрата. А это не что иное, как биомасса микробов.
По своей производительности микробы не имеют себе равных. Приведу такое сравнение. Довольно невзрачная соя, растение из семейства бобовых, содержит до 50 процентов белка — больше, чем любое другое растение из тех, что известны науке. И соевый белок к тому же близок по составу к животному. Соевую муку ныне используют для приготовления искусственного мяса; советские ученые на основе сои сумели в лаборатории получить черную икру, почти неотличимую от натуральной.
Так вот дрожжи, если их рассматривать только лишь как производителя белка, превосходят по скорости его образования сою в сотни раз. В ферментёре масса кормовых дрожжей увеличивается за двенадцать часов в десять раз: Небольшой завод, производящий дрожжи для выпечки хлеба, может выдать за неделю 300 тонн продукции.
Про человека, изготовляющего какие-то предметы или детали с большой быстротой, говорят: «Печет как блины!»
Какие уж тут блины, когда речь заходит о микробах! Ведь некоторые микроорганизмы умножают свою численность неслыханными темпами: клетка производит себе подобную каждые пятнадцать минут.
Как ни велика продуктивность микробов, ученые настойчиво добиваются ее умножения. Тут важно не просто увеличение общей массы, а прибавка того продукта, того вещества, которое человеку нужнее всего в данный момент.
От пеницилла хризогениум (из него, как мы помним, 3. В. Ермольева добыла первый советский пенициллин) добились, что он стал выдавать в пятьдесят пять раз больше антибиотика, чем от него получали первоначально. Как добились? Штаммы хризогениума облучали рентгеном, ультрафиолетовыми лучами, обрабатывали сильными химическими препаратами. Все это проделано было более двадцати раз. И после каждого раза в штаммах выискивали в следующем поколении клетки с повышенной продуктивностью. Их размножали и вновь подвергали такой же обработке. Наконец решили, что на первых этапах для массового промышленного производства увеличения выхода антибиотика в пятьдесят пять раз достаточно. Но спрос на пенициллин стремительно возрастал. И вновь на пеницилл хризогениум обрушили сильнодействующие мутагены — излучения и химические вещества, вызывающие в организме мутации, то есть изменения признаков организма, передаваемые по наследству. Попутно совершенствовалась и технология производства. И что же?
Вы помните, как в лондонской лаборатории Флори с огромным трудом добывали крупицы очищенного пенициллина? Помните, как погиб от заражения крови полицейский из-за того, что не хватило горсточки антибиотика, чтобы спасти его, долечить? Помните, конечно...
То было в начале 40-х годов. Ну а как теперь, в конце 80-х? В современных ферментёрах из литра питательной смеси, в которой живут, действуют, стремительно размножаются клетки хризогениума, из одного литра извлекают 20 граммов пенициллина. А это в десять тысяч раз больше того, что могли с огромными усилиями добыть Флори и Чейн.
Можно было бы завершить короткий очерк об антибиотиках бодрой фразой: опаснейшие возбудители болезней повержены, победное шествие антибиотиков неостановимо. Но — увы. Болезнетворные микробы, виновники тяжелых и опасных заболеваний, отнюдь не повержены. Они обороняются, и, если так можно выразиться, весьма изобретательно. И задают науке новые, подчас весьма нелегкие задачи.
О вирусах, меньших братьях микробов, уже и говорить нечего. От них только и жди неожиданностей. Они-то уж сущие оборотни.
