Смотрящие в корень
- 30.09.2010
Смотрящие в корень
На Новой Гвинее, втором по величине острове нашей планеты, проживает несколько сот народов. Среди них есть обособленные, затерянные в горах племена, о которых за пределами острова никто ничего не знал до самого последнего времени.
Известный русский путешественник Николай Николаевич Миклухо-Маклай, проживший среди новогвинейских папуасов два года и затем еще пять раз посетивший полюбившийся ему остров, смог изучить лишь малую его прибрежную часть. Ведь Новая Гвинея превышает по размерам Великобританию со всеми ее островами более чем в три раза. Да к тому же Новая Гвинея весьма гориста и покрыта тропическими дождевыми лесами, а во второй половине прошлого века, когда ее посещал Миклухо-Маклай, вертолетов еще не знали...
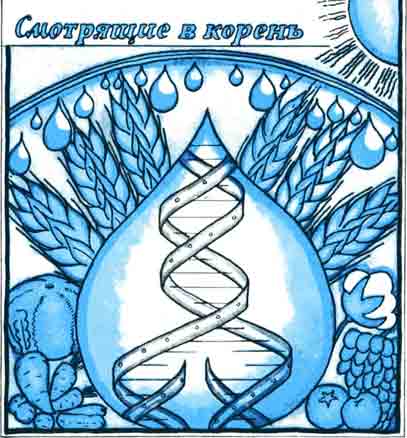
Новогвинейцы, живущие в глубине острова, вообще-то охотники и собиратели. Сказочно богатая природа могла бы их, наверное, прокормить, владей они даже всего двумя этими древнейшими профессиями. Но оказалось, что они еще и земледельцы, да какие любопытные! Выращивают эти племена одно-единственное культурное растение, известное на планете повсюду, где не бывает зимы: батат — сладкий картофель. Но вот агротехника! Она приводит в восторг всех, кто изучает историю земледелия, они как бы попадают — без всякой машины времени — в новокаменный век.
Единственное орудие для обработки почвы — заостренная палка. Новогвинеец втыкает ее в землю, а затем высаживает в образовавшуюся ямку проросток клубня. Вот и все.
Батат — растение многолетнее, и уход за ним не обязателен, разве что приходится иногда сорняки повыдергать вокруг него...
Не так ли, с палки-копалки, зачиналось двенадцать тысяч лет назад земледелие на планете? Совершенствовалось оно очень медленно, переход от собирательства и охоты к оседлому землепашеству занял много сотен лет. Приблизительно десять тысяч лет назад в Месопотамии шумеры стали сеять полбу и ячмень. Прошло еще два тысячелетия, прежде чем в нынешней Мексике ацтеки стали выращивать кукурузу. Еще через тысячу лет в Юго-Восточной Азии впервые отведали рис. Согласно индонезийской легенде, первые его семена тайком унес из обиталища богов некий юноша... Наконец, около пяти с половиной тысяч лет назад в Южной Америке начали разводить картофель.
Медленно, очень медленно развивалось в мире земледелие. Но ведь и численность рода человеческого возрастала небыстро. В начале нашей эры, два тысячелетия назад, на Земле обитало всего лишь двести миллионов человек.
А недавно газеты мира, радио и телевидение разнесли весть: нас, землян, пять миллиардов! 11 июля 1987 года в семь часов утра появился на свет пятимиллиардный житель планеты. Им стал Матей Гашпар из югославского города Загреба.
Пять миллиардов! Грандиозно!.. Да, конечно. Но у многих бурный рост населения вызывает тревогу. Ведь за последнее тысячелетие число жителей Земли выросло в восемнадцать раз. А к 2000 году, по расчетам специалистов из Организации Объединенных Наций, нас станет уже шесть миллиардов сто девятнадцать миллионов. То есть за тринадцать лет прибавка составит более миллиарда. Есть над чем призадуматься...
Николай Иванович Вавилов считал, что возможности мирового земледелия «почти беспредельны». Он писал: «Если бы население земного шара увеличилось в 3—4 раза, ресурсов хватило бы, при правильном и полном использовании их, с избытком...»
Была у великого ученого заветная мечта — накормить досыта хлебом все человечество. Увы, мечта эта еще не осуществлена. Ежегодно от голода умирают миллионы людей. И прежде всего — дети. Так что же, ошибся Вавилов, когда говорил, что планета может прокормить утроенное, учетверенное число людей? Мог ошибиться. Статья, из которой приведена выше цитата, опубликована в 1931 году. Тогда на Земле проживало два миллиарда человек. Ныне, всего через полвека с небольшим, население достигло пяти миллиардов, а пропитания всем, вопреки предсказанию ученого, не хватает...
И все-таки прав был Вавилов!
Обратите внимание: «...ресурсов хватило бы, при правильном и полном использовании их, с избытком...».
А вот что опубликовано в печати в августе 1987 года: «Сегодня в мире достаточно продуктов, чтобы прокормить в полтора раза больше людей, чем нынешнее население Земли». Это — заявление ведущего специалиста Международной организации по борьбе с голодом.
Так что же такое происходит в мире? Продовольствия избыток, а миллионы детей и взрослых умирают с голоду? Причин здесь несколько. Главная из них та, что бедные страны не могут наладить высокоурожайное сельское хозяйство, так как не имеют для этого средств, о чем мы уже говорили. Богатые же страны не могут им помочь, так как тратят огромные деньги на вооружение. Избавить мир от бремени вооружений, в первую очередь ядерных, — это означает избавить все континенты, все народы от голода. Советский Союз, при поддержке многих миролюбивых стран, ведет настойчивую борьбу за разоружение, за то, чтобы деньги, которые государства тратят на ракеты, тратились бы на первейшие, насущные нужды людей. Хотя борьба эта нелегка, но мы верим, что она принесет свои благодатные плоды...
Когда людей на планете было мало, а земли сколько угодно, землепашец не заботился о поддержании плодородия почвы. Перестала родить земля — можно перейти на другое место, где не пахано от века. Но свободных земель становилось все меньше и меньше. В конце концов стало очевидно, что каждый ее клочок, пригодный для выращивания хлеба, — достояние, ценность. Но как сохранить эту ценность, не дать почве истощиться, утратить или снизить плодородие? Каждый земледелец решал эту задачу, хотя и были какие-то общие, веками приобретенные навыки и установления: землю надо удобрять; нельзя на одном месте сеять из года в год одну и ту же культуру; почве нужно время от времени давать отдых, то есть пускать ее под пар, или засевать травами, которые обогащают землю питательными веществами.
Но известных, выработанных веками приемов поддержания и приумножения плодородия почвы теперь уже недостаточно. Ведь нас пять миллиардов. Вот-вот будет шесть. А там, кто знает, не за горами и восемь. И столь же стремительно, обгоняя рост населения, должно расти производство продовольствия. Теперь уже 60 центнеров с гектара — это отнюдь не наивысшие для пшеницы урожаи. Доказано, что пшеница может давать и 100, и даже 150 центнеров с гектара.
Но где, откуда взять земле силы, чтобы, не истощаясь, выдержать подобные урожаи? Ведь с поля после уборки уносится, увозится огромное количество питательных веществ, в первую очередь того же азота, определяющего величину урожая.
Требуются новые, более совершенные, удобрения, новые, не наносящие ущерба природе, средства защиты растений. И микроорганизмы, живые помощники земледельца, могут, должны тут сыграть большую роль...
В городе Пушкине, под Ленинградом, бывшем Царском Селе, с его дворцами и парками, разросся крупный, всесоюзного значения центр сельскохозяйственной науки. Здесь располагаются лаборатории, опытные поля и теплицы всемирно известного ВИРа — Всесоюзного института растениеводства имени Н. И. Вавилова. Вавилов был организатором и директором этого учреждения. Ученики и последователи Вавилова собрали со всех континентов крупнейшую в мире коллекцию семян культурных растений. Ею пользуются селекционеры для выведения сортов пшеницы, ржи, кукурузы и многих других сельскохозяйственных культур.

Среди расположенных в Пушкине и соседнем Павловске учреждений — Всесоюзный институт сельскохозяйственной микробиологии. Его сотрудники — в подавляющем большинстве молодые люди. Но ведь и сама наука, сельскохозяйственная микробиология, молода. Пушкинские ученые смотрят в корень. Это буквально. Здешних исследователей занимает корнеобитаемый слой жизни, в котором жизнь кишмя кишит.
Растения и азот. Тема эта — острейшая для земледелия. Она — главная и для Института сельскохозяйственной микробиологии.
Его сотрудников равно интересуют и чисто научные проблемы, требующие для своего решения длительного времени, и задачи, связанные с сельскохозяйственной практикой сегодняшнего дня. Разграничивать две области ни к чему. Большие ученые никогда не отделяли, не обособляли теоретические изыскания от житейской практики. Научная идея, кажущаяся в своем зародыше далекой от насущных проблем и потребностей человека, в конечном итоге может принести — и приносит — практике большие выгоды...
Беседую с Андреем Олеговичем Заленским. Он заместитель заведующего одной из лабораторий Института сельскохозяйственной микробиологии, а именно — лаборатории биотехнологии. Возглавляет ее директор института Игорь Анатольевич Тиханович. Он тоже молод, как почти все вокруг. Сейчас он в отъезде.
«Как возникает содружество, сожительство высшего растения, например гороха, с бактериями? Заразить горох, вызвать на его корнях образование клубеньков способен лишь один вид из обширного рода клубеньковых бактерий. Каким же образом будущие сожители, растение и микроб, узнают друг друга? И далее. Клубеньки, наросты на корнях гороха, конечно, растительная ткань. Стало быть, клубеньковые бактерии обитают внутри растительных клеток, в цитоплазме. Как это становится возможным? Управляют всем этим гены, определяющие тот или иной наследственный признак. Таково общее положение, вытекающее из законов генетики. Ну а применительно к бобовым? Этим и занялись в институте. Работа кропотливая. Намного ускорить ее поможет новейший прибор, который вот-вот лаборатория получит, — синтезатор генов».
Заленский говорит далее о конечной цели исследования.
«Она пока что представляется отдаленной голубой мечтой. Разве не заманчиво создать пшеницу, которая, подобно тому же гороху, сможет получать азот при помощи клубеньковых бактерий! И не будет нужды вносить под посевы главной культуры мирового земледелия огромные дозы азотных удобрений, что весьма удешевит выращивание сверхурожаев».
У кого-нибудь может возникнуть предположение, что ученые мечтают вывести путем скрещивания или иным способом некий гибрид пшеницы с горохом или иным бобовым растением. Нет, нет. Пшеница останется пшеницей, со всеми ее прекрасными качествами. Но можно надеяться, что, пересадив пшенице ген или несколько генов, ответственных у бобового растения за азотфиксацию, удастся «научить» злак образовывать клубеньки...
Многие работы Института сельскохозяйственной микробиологии уже служат сельскому хозяйству.
Азотные удобрения поглощают треть общих затрат на растениеводство. Чтобы выработать тонну азотных туков, надо затратить 4, а то и 5 тонн нефти. Но перекармливать растение азотным минеральным удобрением опасно, вредно. Об этом уже говорилось. Добавить можно: при избыточном внесении азота в урожае — в зернах, клубнях, плодах накапливаются нитраты — химические соединения, не безвредные для организма человека. Избыточный азот вымывается и попадает в ручьи, реки, озера, где он не только не нужен, а и попросту вреден.
Азот нужен — азот вреден! Вот вам и задачка. Решение вроде бы напрашивается: выбирай золотую середину! Но ее ведь надо отыскать, ее же аршином не отмеришь.
Предлагаются разные способы, чтобы выйти из трудного положения. Микробиологи идут своими путями — они стремятся приумножить активность невидимой рати азотфиксаторов.
Всесоюзный институт сельскохозяйственной микробиологии существует более полувека. Первым его директором был академик Сергей Павлович Костычев, сын одного из основоположников науки о почве Павла
Андреевича Костычева. И едва ли не с самого основания института его сотрудники занялись созданием препаратов, которые можно назвать живыми удобрениями.
Расскажу об одном из них, успешно применяемом на полях. Это — ризоторфин (ризо — от ризобиума, названия рода клубеньковых бактерий, а торфин — от торфа). Он рекомендован для широкого применения при возделывании всех бобовых культур: гороха, люпина, сои, вики, фасоли, люцерны, клевера, донника, эспарцета и других.
Могут спросить: а почему только о бобовых пекутся микробиологи? Эти растения и так ведь обеспечены азотом за счет клубеньковых бактерий? Но мы ведь уже говорили, что принудить азотфиксирующие бактерии сотрудничать, скажем, с пшеницей — это пока что голубая мечта ученых. А бобовым добавочный азот только на пользу. Почвы, на которых произрастают бобовые, нередко бывают бедны клубеньковыми бактериями; иногда же обитатели клубеньков бывают не очень активны и надо постараться их взбодрить.
Практика применения ризоторфина на полях показывает, что он повышает урожаи сои, люцерны и клевера. Да при этом увеличивается содержание белка в растениях. Пожнивные остатки бобовых, которые возделывают с применением ризоторфина. особенно богаты азотом. Такое поле — отличный предшественник для других культур. Замечено, что ризоторфин повышает устойчивость бобовых растений к грибковым заболеваниям.
Ризоторфин выпускают на небольших заводах в Ленинграде, Киеве, Минске, Казани, Пензе. Приготовление препарата обходится в тридцать—сорок раз дешевле, нежели производство минеральных азотных удобрений.
В Институте сельскохозяйственной микробиологии разработаны и рекомендованы к употреблению семь биологических препаратов. Среди них и ризоторфин. Широко ли они применяются? Мне показали карту страны. На ней разными значками обозначены места, где ризоторфином и другими средствами пользуются. В европейской части страны значков все же порядочно. На Урале и в Зауралье — значительно меньше. Между Уралом и Дальним Востоком — три значка у Байкала, два в Приморье. Почему же землепашцы пренебрегают дешевыми, доступными, дающими прибавку к урожаю препаратами?
Вопрос непростой. Мне кажется, потому, во-первых, что укоренилась привычка, которую теперь стараются изжить: применять лишь то, что предписано. А микробиологические препараты лишь рекомендуют. Другая причина в том, что применение ризоторфина и ему подобных средств имеет смысл лишь в том случае, если в колхозе или совхозе агротехника на высоком уровне, если к высокому урожаю стремятся получить добавку.
А если земля запущена, если полевые работы выполняются спустя рукава, абы как, то уж тут совсем не до изысков.
Применять ризоторфин несложно, как мы видели, но работать с ним надо весьма аккуратно. На пакете написано «Для гороха», а если кто-нибудь перепутает либо не придаст значения надписи и обработает этим средством семена фасоли, то все — насмарку. Мы ведь знаем, что с каждым бобовым растением «сотрудничает» только определенный вид бактерий. Иной вид клубеньков не образует. Иногда предпосевную обработку семян ризоторфином ведут при помощи машины для протравления семян. Это не возбраняется. Но если машина не отмыта как следует, если на ней следы ядохимикатов, то бактерии погибнут. И разве это редкость, разве не встречаем мы работников, кои пренебрегают правилами: авось сойдет. Нет, не сойдет!
Действуют и предубеждения. Неужто пакетик какого-то порошка заменит мешок «минералки»? Да быть того не может!.. Употребим и то и другое — ведь кашу маслом не испортишь...
