Без меры и лаптя не сплетешь
- 30.09.2010
Без меры и лаптя не сплетешь
Известная русская пословица «кашу маслом не испортишь» таит в себе, мне кажется, некое лукавство. Так-то оно так, но все же... Каша масло любит, кто же этого не знает. Однако один кашеед кладет в тарелку кусище, а другому и кусочка предостаточно, перемасленную кашу он и есть не станет. Применять же ходовую пословицу расширительно, так сказать, за пределами каши, и вовсе рискованно. Получится — лей, не жалей, накладывай с горой, сыпь поболе... Скажем, любители чая обсуждают способы его заварки. И наиболее решительный участник приятной беседы провозглашает вдруг: «А чего тут толковать — сыпь побольше, и всех делов!» Благоразумный возражает: «Можно так сыпануть, что своих не узнаешь, получится не чай, а черт-те что — глаза на лоб полезут!»
Пословицы иногда как бы спорят друг с другом. «Мера всякому делу вера», «Без меры и лаптя не сплетешь». Похоже, что в наш век электроники и точнейших измерений эти две пословицы одерживают верх над той, которая про кашу с маслом.
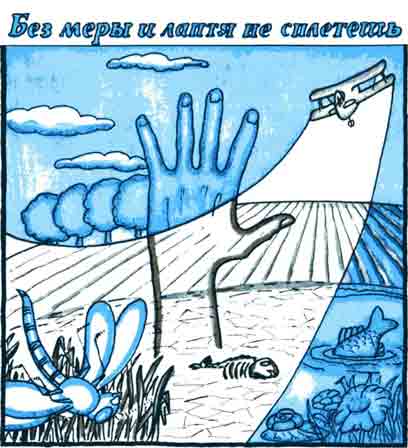
Теперь продолжим наш разговор об азоте.
Крупнейший агрохимик нашего столетия Дмитрий Николаевич Прянишников, ученик К. А. Тимирязева и учитель Н. И. Вавилова, всю свою сознательную жизнь изучал «рот» растения — корневое питание. Многие его труды посвящены роли азота в создании плодородия почвы. В одной из своих работ Прянишников напоминает читателю, что еще земледельцы Древнего Рима применяли агротехнический прием, который теперь называют зеленым удобрением, — запахивали под посев зерновых урожай бобовых, таких как люпин. Прием этот применялся с особенным успехом на склонах Везувия. Много столетий спустя ученые выяснили, что пепел и застывшая лава знаменитого вулкана содержат раз в десять больше фосфора и калия, нежели обычные почвы; азота же им недостает. И его недостаток восполняли, запахивая люпин.
Конечно, древнеримские пахари знать ничего не знали ни про азот, ни про фосфор и калий. Но они видели, что, посеяв пшеницу по люпину, наверняка соберешь больше зерна.
Опыт римлян был предан забвению на долгие времена. По крайней мере тысячелетие подряд урожаи зерновых в Европе не превышали 7 центнеров с гектара. В средние века, когда население из-за повальных болезней и непрерывных войн увеличивалось очень медленно, а то и вовсе уменьшалось, таких урожаев хватало, чтобы прокормить всех жителей Европы. Но в период Возрождения (XIV—XVI века) людей стало намного больше и цены на продовольствие резко возросли, ибо урожаи оставались прежними, средневековыми. По расчетам специалистов, более половины средств европейца тратилось в ту эпоху только на хлеб и муку.
Лишь в XVIII столетии в Бельгии, Голландии и Англии начали сеять клевер. И благодаря ему в этих странах стали увеличиваться урожаи зерновых, достигнув 15—16 центнеров с гектара. Клевер, как и другие бобовые, обогащает почву азотом двумя путями — прямым и косвенным. Первый из них — азотфиксация, мы с ней уже знакомы; второй — внесение в почву навоза, обогащенного азотом вследствие скармливания скоту клеверного сена. «Этого относительного насыщения хозяйства азотом долго не замечали, — пишет Прянишников, — как не замечают воздуха, которым дышат, пока Буссенго не поставил со всей четкостью вопрос о значении азота в жизни растений».
Не только в Европе, но и на других континентах земледельцы, слыхом не слыхавшие слова «азот», стремились обогатить этим важнейшим элементом почву. В молодые годы Буссенго, путешествуя по Южной Америке, где-то в Перу приостановился возле кукурузного поля, залюбовавшись необычайно мощными растениями, вымахавшими в полтора человеческих роста. Хозяин поля на вопрос, как он добивается такого урожая, ответил одним словом: «Гуано!»
Слово это испанское. Означает — помет морских птиц, чаек и многих других, разложившийся в сухом климате. Гуано — ценнейшее удобрение, содержит не только азот, но также фосфор, калий и кальций, то есть главнейшие элементы питания растений. В прошлом веке вокруг островов, лежащих близ побережья Чили и Перу, возникла «гуано лихорадка». Гигантские залежи гуано, скопившиеся на островах, разрабатывались в больших масштабах. Потом стали добывать чилийскую селитру, богатую азотом. Ее на судах вывозили и в Европу.
Наконец — это уже произошло в начале XX века, в годы первой мировой войны, — химики принудили ленивый азот войти в упряжку: из азота воздуха и из водорода удалось синтезировать аммиак. После этого стало бурно развиваться производство азотных минеральных удобрений. И столь же бурно стали возрастать урожаи. В Голландии, к примеру, где сельское хозяйство издавна отличалось высокой продуктивностью, уже к 30-м годам нашего века урожай пшеницы достиг 30 центнеров с гектара. А к 80-м годам, всего лишь за полвека, он еще раз удвоился. Такой скачок стал возможен благодаря минеральным удобрениям, прежде всего азотным. В таких малых по территории и плотно заселенных странах, как Голландия, Бельгия. Дания, где пахотные земли обрабатываются весьма тщательно, достигнуть сверхвысоких урожаев легче, чем, скажем, в Советском Союзе и США. Но минеральные удобрения дали возможность всем развитым богатым странам, в том числе, разумеется, и нашей, сильно поднять урожаи.
Казалось, что мировое сельское хозяйство вступило в золотой век. Стали создаваться новые, низкорослые сорта пшеницы, ржи с крепким стеблем, который мог устоять, не полегая, под тяжестью увеличенного колоса. Теперь пшеничное либо ржаное поле не укроет тебя с головой: соломина стала ниже ростом, зато утолстилась.
Но понемногу стало выявляться, что не так-то все просто. Дары золотого века — вовсе не дары. За них
платим мы большую цену. Они дороже самого золота.
Да, сырье для азотных минеральных удобрений действительно даровое: запас атмосферного азота неисчерпаем. Тем не менее производство азотных удобрительных туков влетает в копеечку. Ленивый азот трудно заставить войти в соединение с водородом, чтобы получить нужный продукт. Для этого тратится уйма электрической энергии. А она отнюдь не дешевеет. Ее добывают, сжигая нефть, уголь; либо, возводя на больших реках гидростанции, затопляют леса (их не всегда даже успевают свести), луга, пашни; приходится переносить на более высокие места многие селения, древние храмы.
Дорожает энергия. Дорожают и минеральные удобрения, а стало быть, продукты сельского хозяйства: хлеб, мясо, молоко.
Так обстоит дело в развитых богатых странах. В тех же государствах, которые вступили на путь развития не столь давно, освободившись от колониальной зависимости, возникают еще большие трудности. Своих азотно-туковых заводов эти государства еще не имеют, покупать у богатых стран минеральные удобрения — не по карману. Новые высокоурожайные сорта зерновых бедным государствам тоже не очень доступны. Семена таких сортов дороги — это раз. Второе: чтобы сорт дал высокий урожай, надо вносить под него большие дозы минеральных удобрений, что опять-таки дорого.
Такие вот сложности возникли в мировом сельском хозяйстве. Но это еще не все.
Население планеты быстро возрастает. Хлеба надо все больше. В погоне за сверхвысокими урожаями землепашцы в богатых странах начали вносить под посевы все больше и больше минеральных удобрений, в первую очередь азотных: они, главным образом, определяют величину урожая. При этом стали пренебрегать навозом. И вот тут-то выявилось, что кашу маслом, вопреки пословице, все-таки можно испортить.
Для минеральных удобрений разработаны наилучшие, научно обоснованные нормы: сколько чего, когда под разные культуры вносить. Если сыпать «на глазок», то получишь продукт худшего качества. Нередко можно услышать от хозяйки: «Картошка невкусная, какая-то она водянистая, не рассыпчатая». Значит, скорее всего перестарались картофелеводы, переложили «минералки». Это относится и к морковке, и к главному продукту нашего земледелия — пшенице. Излишек минеральных удобрений ухудшает вкус и качество всего выращенного на полях, в огородах, в садах.
А всякие препараты, придуманные химиками для защиты растений от сорняков, насекомых и возбудителей болезней? Ими тоже нередко злоупотребляют, руководствуясь тем же принципом: разбрызгивай побольше! Между тем здесь нужна особенная осторожность. На пашне, в огороде, в саду все должно делаться не только тщательно, при соблюдении правил агротехники, но и вовремя. Ни раньше и не позже, а вовремя! Если опрыскать яблоню ядохимикатом в период цветения, а еще того хуже — во время завязывания плодов, то созревшие яблоки будут просто несъедобными.
Латинское слово «пестициды» переводится как «заразоубивающие средства». От него веером расходятся термины, в основе которых коротенькое латинское «цидо» — «убиваю». Гербициды — травоубийцы, инсектициды — убийцы насекомых, фунгициды — убийцы возбудителей грибных заболеваний, зооциды — убийцы грызунов и так далее. «Убиваю, убиваю, убиваю...» Жутковато.
В 40-е годы нашего столетия швейцарский химик Пауль Мюллер предложил средство для борьбы с вредоносными насекомыми, получившее сразу широкое распространение во всем мире, — ДДТ (полное название — дихлордифенилтрихлорэтан). Применение этого белого порошка началось еще в годы второй мировой войны и помогло извести окопную вошь — передатчика сыпного тифа, уносившего в прежние войны без выстрела тысячи и тысячи солдатских жизней. Затем наступила очередь комаров — разносчиков малярии. С помощью ДДТ их удалось так основательно подавить, что про малярию, тяжелую, весьма распространенную некогда болезнь, во многих местах просто забыли. Ну а затем ДДТ стали широко и с успехом применять в садах, на полях.
А Паулю Мюллеру присудили Нобелевскую премию.
Приблизительно два десятилетия продолжалось победное шествие ДДТ. А потом применение его было запрещено в каких бы то ни было целях — сначала в самой Швейцарии, затем и в других странах... ДДТ, представьте, обнаружили в печени ни в чем не повинных, никому не вредящих обитателей Антарктиды — пингвинов. Оказалось, что препарат задерживается в организме человека и животных, в том числе обитателей океана. А пингвины питаются рыбой, моллюсками, рачками. Некоторые другие ядохимикаты, попав в организм в малых, не опасных дозах, довольно быстро удаляются из него, с мочой прежде всего. Коварство ДДТ в том, что он как будто не приносит вреда, а, накопившись в печени, может вызвать тот или иной недуг.
Мы привыкли к выражению «земля-кормилица». Оно уже примелькалось. Но забывается, что сама-то кормилица нуждается тоже в уходе.
Изначальный смысл слова «кормилица» — женщина, кормящая грудью чужого ребенка. Было время, когда жены состоятельных людей сами не кормили грудью детей, а брали в дом кормилиц, часто выкармливающих и своего грудного и хозяйского. Конечно, хозяйка дома, мать, присматривала, чтобы кормилица хорошо питалась, чтобы ее не раздражали, не волновали, а то ведь у нее молоко пропасть может.
У земли нет своих и чужих детей. Она кормит всех, кто на ней трудится и кто обращается с ней как добрый хозяин. Но как часто встречаем мы горе-землепашцев, которые думают, что земля все стерпит. Потерпит-потерпит, да и начнет кормить своего нерадивого хозяина скудно, а то и вовсе родить перестанет.
Убывающее плодородие сельскохозяйственных земель вызывает большую тревогу повсеместно. Так что же делать? Не поить, не кормить кормилицу тем, что вредит и ей и дитяти, которое она вскармливает?! Можно услышать такие суждения: запретить употребление минеральных удобрений и химических средств защиты растений, а заодно и современной сельскохозяйственной техники, которая разрушает почву. Иначе говоря, вернуться к тому землепашеству, какое вели наши прадеды, а то и прапрадеды (деды уже знали и тракторы, и комбайны)?
Наука ищет и находит пути, по которым должно идти современное сельское хозяйство, чтобы преодолеть серьезные трудности.
Дмитрий Николаевич Прянишников многое предвидел. Он говорил о минеральных удобрениях, «что не следует увлекаться чрезмерно высокими дозами, ибо известный оптимум существует и здесь». И далее: «Для получения высоких урожаев необходимо сочетание минеральных удобрений с органическими». И еще: «...нечего и думать решать азотный вопрос в целом с помощью химической промышленности, в основе он должен быть разрешен через культуру азотособирателей... Этот источник азота нужно считать даровым, так как все расходы по культуре клевера (и других трав) окупает животноводство».
Важное предостережение! Ученый призывал не увлекаться сверх меры минеральными удобрениями еще в те годы (Прянишников писал это в 1945 году, за три года до своей кончины), когда самих этих удобрений у нас было еще очень мало, когда их вносили преимущественно под такие ценные культуры, как хлопчатник и чай, выращиваемые в некоторых южных районах на сравнительно небольших площадях.
Д. Н. Прянишников, пропагандируя такой источник почвенного плодородия, как зеленые удобрения, ничего в своей работе не сказал о бактериях-азотфиксаторах. Понятно почему. В 40-е годы наука знала об этих невидимых друзьях урожая куда меньше, нежели теперь.
Земля, почва, нуждается не в бесконечном повторении той истины, что она «матушка», «кормилица», а в реальной защите.
Подробнее мы поговорим о средствах защиты, в частности об одном из них — внимании к микроорганизмам, способным поставлять растениям азот, в следующей главе.
А сейчас хочется высказать юному читателю немудреную истину, до которой он, в общем-то, и сам легко додумается. Если есть у твоей семьи клочок земли — приусадебный участок или несколько соток в садоводстве, — то, наверное, ты причастен к его обработке, к тому, что на нем высажено и произрастает. И, трудясь на своем участке, соприкасаясь с землей, не уподобляй ее гречневой каше, которую маслом не испортишь. Уважай науку, хорошенько вчитывайся в наставления. Будь педантом, будь занудой, в конце концов. Не уподобляйся сыну Жана Батиста Буссенго, о котором отец сказал, будто он иногда воображает, что у него в глазу весы.
