Муки Тантала
- 30.09.2010
Муки Тантала
Фригийский царь Тантал, сын Зевса, совершил много прегрешений. Он разгласил тайны олимпийцев — богов, обитающих на Олимпе. Он похитил на божественном пире нектар и амброзию. И наконец, пригласив к себе богов, предложил им блюдо, приготовленное из мяса убитого им собственного сына Пелопса.
Разгневанные боги, отказавшись от трапезы, велели оживить Пелопса, самого же Тантала обрекли на вечные муки жажды и голода, низвергнув его в Тартар.
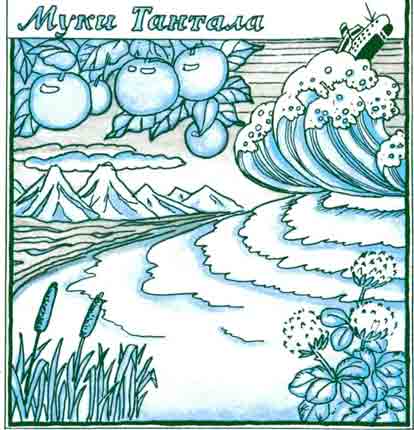
Стоит Тантал в преисподней по горло в воде. И едва он наклоняет голову, чтобы напиться, как вода отступает от его пересохших губ. Над ним нависают ветви, отягощенные зрелыми плодами. Но стоит ему протянуть руку, чтобы сорвать хоть один из них, как ветвь отклоняется.
Древнегреческую легенду о фригийском царе Тантале я вспомнил, когда завел разговор с моим давнишним знакомым, ботаником. Меня интересовали некоторые подробности, касающиеся питания растений.
Ботаник опять-таки обратился к древним грекам, напомнив мне известное суждение Аристотеля. Растение, по Аристотелю, есть не что иное, как животное, поставленное с ног на голову: органы размножения, цветки, у него наверху, а корни, выполняющие роль рта, внизу. Корнями растение извлекает из земли готовую пищу, не выделяя нечистот. Ученик Аристотеля Феофраст высказал поразительную для того времени догадку: не служат ли растению вторым ртом листья? Догадка Феофраста подтвердилась две с лишним тысячи лет спустя, в XVIII веке нашей эры, когда удалось выспросить у зеленого листа, что под действием света он поглощает из воздуха углекислый газ. Углерод, входящий в состав этого газа, потребен растению для синтеза молекул органического вещества.
Вот вам два рта — корни и листья.
Воздушное и корневое питание растений задали науке немало головоломок. Не все они разгаданы доселе. Нас сейчас интересует азот.
Известно, что он входит в состав важнейших веществ живых клеток — белков. И стало быть, ничто живое без него не обходится.
Воздушный океан изобилует этим газом — в земной атмосфере около восьми десятых азота. Однако ни человек, ни животные, ни растения не могут поглощать азот воздуха, подобно кислороду, которым дышат. Люди и животные получают азот с пищей. Ну а сами растения? Они же буквально купаются в океане азота. Но они не способны поглощать его из атмосферы, подобно тому как Тантал не мог утолить ни жажду, ни голод, хотя перед ним воды и пищи было вдосталь.
Вычислено: столб воздуха над гектаром земной поверхности содержит 80 тысяч тонн азота. Представим себе, что зеленые листья каким-нибудь образом получили возможность поглощать атмосферный азот, подобно тому как они своими устьицами жадно впитывают углекислый газ, которого в воздухе всего-то каких-нибудь три сотых процента. В этом случае атмосферного азота хватило бы, чтобы снимать урожай зерновых с одного гектара пашни в размере 30 центнеров на протяжении полумиллиона лет. Само собой разумеется, что землепашец был бы избавлен от необходимости вносить под посевы азотные удобрения. А это — самая дорогая статья расхода в сельском хозяйстве. К тому же азотные, как и прочие минеральные удобрения, если их в погоне за урожаем вносят с избытком, причиняют всякие неприятности, о которых речь впереди...
Но ведь как-то, откуда-то растения все же добывают азот! Ведь дикая растительность азотной подкормки не получает, а пышно развивается, плодоносит, украшает планету. Это была одна из тех загадок, которую науке удалось разгадать лишь в конце прошлого века. Но и по сей день не выяснены многие весьма важные подробности.
Одним из первых взялся разгадывать тайну азотного питания растений французский химик Жан Батист Буссенго. В 30-е годы прошедшего столетия, когда он начинал свои исследования, некоторые ученые предполагали, что в растениях азот вообще отсутствует, он содержится лишь в организме животных.
В Эльзасе, на востоке Франции, у Буссенго было имение, где он проводил полевые опыты. Доказать, что растения нуждаются в азоте, а следовательно, извлекают его откуда-то, ему было нетрудно. Он узнал также, что клевер и люцерна (бобовые) обогащают почву азотом, а зерновые и корнеплоды — обедняют. Откуда же берут азот растения? Из удобрений? Да, конечно, в навозе азот содержится. Но Буссенго любил все взвешивать, измерять, глазу не доверял. Много лет спустя после эльзасских опытов он как-то сказал одному из друзей про своего сына, перенявшего профессию отца: «Вообще-то он дельный химик, но ему иногда кажется, что у него в глазу весы».
Так вот, не доверяясь глазу, Буссенго-отец при помощи весов убедился, что в собранном урожае содержится больше азота, нежели его было в навозе, внесенном под посев. Откуда взялся излишек? Из воздуха, конечно! Значит, предположил Буссенго, бобовые растения способны добывать азот с помощью листьев, подобно тому как они усваивают из атмосферы углекислый газ.
Такое умозаключение казалось бесспорным по тому времени. Но Буссенго захотелось впоследствии подкрепить свой вывод опытами, которые он и поставил — уже в 50-е годы — в своей парижской лаборатории. Он выращивал люпин и бобы под стеклянным колпаком, применяя вместо почвы прокаленный толченый кирпич, удобренный только золой. А воздух, подаваемый растениям, перед тем пропускался через склянки с кислотой, поглощающей аммиак. Таким образом, под колпак поступал только содержащийся в атмосфере молекулярный азот; азотистые соединения начисто отсутствовали и в зоне корней, и вокруг листьев.
За три года Буссенго провел шестнадцать подобных опытов. И ни одно из подопытных растений, что называется, не притронулось к молекулярному азоту. Они смогли использовать лишь те малые порции азота, что содержались в семенах.
Под колпаком выросли хилые растеньица, испытывающие острое азотное голодание, хотя в воздухе азота было достаточно.
Буссенго оказался в тупике. В Эльзасе растения «ответили» ему, что они берут азот из воздуха. В парижской лаборатории они начисто это «отрицали». Ошибка при постановке опытов? Впоследствии ученые не раз повторяли парижские и эльзасские опыты. Каждый раз оказывалось, что в обоих случаях Буссенго работал безупречно. К. А. Тимирязев, во время научной командировки работавший в парижской лаборатории Буссенго, писал потом, что если его французский учитель задавал природе вопрос, то переспрашивать после него не имело никакого смысла.
Буссенго тем не менее чувствовал себя прескверно. Запутался, как мальчишка, а самому уже минуло пятьдесят, он профессор. Возликовали его враги; а среди них был сам император Франции Наполеон III, которому Буссенго не угодил своими республиканскими воззрениями.
В конце концов Буссенго отрекся от своих эльзасских опытов, признав их ошибочными.
Все эти драматические для ученого события происходили в 50-е годы. А в конце 80-х пришла разгадка.
Еще в 1866 году известный петербургский ботаник и почвовед Михаил Степанович Воронин, изучая в микроскоп наросты (их потом назвали клубеньками) на корнях бобовых растений, разглядел в них какие-то «тельца». Воронин высказал верное предположение, что образование клубеньков связано с деятельностью бактерий.
Спустя два десятилетия клубеньками занялся голландец Мартин Бейеринк. Лаборатория Бейеринка была оснащена лучше домашней воронинской, да и вообще быстро развивающаяся микробиология ушла за двадцать лет далеко вперед. И Бейеринку удалось опытами доказать то, о чем Воронин лишь догадывался. Голландец выделил те самые «тельца», которые углядел в микроскоп Воронин. Это были бактерии. Быстро разрастаясь в чистой культуре, они образовывали колонии, по цвету схожие с топленым молоком. Эти бактерии получили родовое название ризобиум (от греческого «ризо» — «корень», «био» — «жизнь»; то есть жизнь на корнях). Это было началом серии открытий. Оказалось, что в верхних слоях почвы, в так называемом корнеобитаемом слое, да и на самих корнях, обитает сонм разнообразных микроорганизмов. Такого скопления невидимых, пожалуй, нигде больше не встретишь. Все они очень деятельны. Даже те, что заточены в клубеньках, образуемых на корнях клевера, люцерны, вики, гороха, люпина и других растений из семейства бобовых.
Чем же занимаются клубеньковые бактерии из рода ризобиум? Они, выражаясь обиходными словами, приготовляют азотную пищу для растений, переводя молекулярный азот в соединения, доступные корням. Этот процесс назвали азотфиксацией. Из корней эти и другие минеральные соединения подаются вместе с водой наверх — в ствол, стебель, в листья. При жизни клубеньковых бактерий большая часть усвоенного ими азота используется растением, корни которого они обжили. Но вот растение отмерло, отмерли, естественно, и корни. А бактерии переходят в почву, где продолжают размножаться.
Бактерии вначале раздражают корневой волосок, а потом проникают в корень, образуя клубеньки, где и «готовят» пищу растению, в свою очередь потребляя корневые соки.
На корнях клевера, люцерны, вики клубеньки мелкие, а на корнях люпина иногда — величиной с лесной орех.
Сожительство бактерий с корнями бобовых, как мы видим, выгодно и растению и микробам.
Работа Бейеринка о клубеньковых бактериях была опубликована в 1888 году. А годом раньше, дожив до восьмидесяти пяти лет, скончался Жан Батист Буссенго. Проживи он еще год — он наверняка бы убедился, что шел верным путем и зря отрекся от эльзасских опытов. Там растения неизменно «отвечали» ему, что берут азот из воздуха. И не мог тогда Буссенго знать, что растение поглощает азот не прямо из атмосферы, а добывает его хитроумным кружным путем — из воздуха при посредстве бактерий. В 30-е годы, когда ставились эльзасские опыты, о микроорганизмах вообще мало что знали: микробиология как наука сформировалась под влиянием идей Пастера гораздо позднее, во второй половине века. Ну, а в ходе парижских опытов растения дали Буссенго прямо противоположный ответ, то есть что они не берут азот из воздуха, по причине, для нас очевидной: Буссенго, сам того не ведая, лишил растения азотфиксаторов — в прокаленной глине, да под стеклянным колпаком, бактерии отсутствовали.
Чистота, безупречность опытов лишь способствовали тому, что Буссенго запутался. Невидимые обитатели микробного царства сыграли с ним злую шутку.
Вот как иногда бывает в науке!..
За сто лет, минувших с того времени, когда Бейеринк открыл азот-фиксацию, наука узнала об этом важнейшем биологическом процессе многое. Многое, но далеко не все, не будем обольщаться.
Подумать только. «Азот» в переводе с греческого означает «безжизненный», «не поддерживающий жизнь». Так думали, пока не выяснилось, что этот бесцветный, лишенный запаха газ инертен, ленив только в молекулярном состоянии; и что он один из главных биогенных элементов, постоянно входящих в состав организмов, необходимых им для жизнедеятельности. Он оставался сфинксом, этот азот, покуда наука не дозналась, как он, не желая участвовать в химических реакциях, все же попадает в организм. И вот всего лишь сто лет назад стало очевидно, что в природе азотфиксацию совершают микроорганизмы, .и только они. Они связывают ленивый газ, вовлекая его в химические соединения, доступные растениям. Стало также известно, что азотфиксация совершается под контролем фермента нитрогеназы.
Есть, правда, помимо бактерий еще один источник связанного азота — грозовые разряды. Но этот источник упоминается вскользь: при грозах образуется лишь 0,5 процента всего фиксированного азота.
Выявление биохимических механизмов азотфиксации остается одной из важнейших проблем в современной биологии. Искания в этой области прямо связаны с повышением плодородия почв.
Шаг за шагом ученые выпытывали и продолжают выпытывать у природы подробности, связанные с превращением азота. Стало известно, что клубеньковые бактерии сожительствуют не только с бобовыми. Выявлено до двухсот видов растений, у которых на корнях развиваются клубеньки. Среди них — редчайшее дерево гинкго, дошедшее до нас из отдаленных геологических эпох и в диком виде произрастающее лишь в одном из уголков Китая. Клубеньки есть и на корнях обыкновенной ольхи.
Усваивать азот растениям помогают не только клубеньковые, но и многие другие свободно обитающие в почве бактерии. В 1893 году Сергею Николаевичу Виноградскому удалось выявить такую, не прикрепленную к корням, бактерию, которая обогащает почву соединениями азота, доступными растениям. Виноградский назвал открытую им бактерию клостридиум пастерианум («клострум» по латыни «веретено» — такую форму приобретает клетка бактерии; пастерианум — в честь Луи Пастера). Больше всего этих бактерий в верхних слоях почвы, богатых органическими веществами.
А в самом начале нового века Мартин Бейеринк, исследуя плодородную садовую землю, открыл в ней еще одну свободно живущую азотфиксирующую бактерию, назвав ее азотобактер хроококкум (родовое название отражает способность фиксировать азот, видовое — вырабатывать коричневый пигмент и образовывать круглые клетки).
Азотобактер помимо фиксации азота весьма полезен тем, что образует витамины группы В, никотиновую кислоту, ростовые вещества. Все эти биологически активные соединения благоприятны для высших растений, в частности ускоряют прорастание семян и развитие проростков. А еще обнаружено, что азотобактер выделяет антибиотик, тормозящий развитие вредных для растений грибов.
Полезно запомнить: азотобактер хорошо размножается и проявляет все свои полезные для человека благотворные свойства на плодородных почвах.
На одном гектаре такой почвы, в верхнем ее слое, толщиной в 1 5 сантиметров, может содержаться до 5 тонн микроскопических грибов и бактерий самых разных видов. Подсчитывать число микроорганизмов — занятие канительное: получится в итоге цифра с устрашающим количеством нулей.
Жизнь высших растений, зверей, птиц, насекомых — у нас на виду. Мы можем любоваться лесом, цветущим лугом, изучать повадки птиц и жуков, фотографировать их, снимать на кинопленку. Но вот перед нами верхний прикорневой слой хорошо удобренной почвы. Мы знаем, читали в книгах, слышали на уроках, что это сгусток жизни. Но поглядеть бы на происходящее в этом сгустке, что называется, своим глазом!..
Дадим ненадолго волю фантазии... Мы обзавелись очками, позволяющими видеть окружающее увеличенным ну хотя бы в две тысячи раз. Хотите сказать, что такое увеличение дает современный световой микроскоп, не говоря уже об электронном? Но на предметном стекле мы разглядываем крохотный почвенный комочек, содержащий множество бактерий. Электронный микроскоп позволяет сфотографировать молекулу, вирус... Хочешь укрупнить наблюдаемое — суживай круг наб-
людения. Опушку леса в микроскоп не разглядывают.
А в наши воображаемые окуляры мы хотим разглядеть, что происходит близ корней, в хорошо удобренной почве, которую разными путями, большей частью окольными, дотошно исследуют ученые...
Снимем осторожно лопаткой самый верхний слой почвы, и бросятся в глаза извивающиеся толстые огромные создания. Да ведь это обыкновенные черви, которых мы собираем в банку, перед тем как отправиться на рыбалку! Дождевые, земляные, выползки. Любовались мы чудищами недолго, они упрятались в глубину. Но они нас сейчас не интересуют, хотя черви играют огромную роль в создании плодородия почвы. Мы вглядываемся в то, что скрыто от невооруженного глаза. Перед нами — огромное скопление живых созданий, чрезвычайно разнообразных по форме и по своим повадкам. Одни перерабатывают отмерший корневой волосок, другие набросились на погибшую личинку. Мертвая ткань переваривается, окисляется. Все меняется на глазах. Вот скопление клеток, — возможно, это дрожжи, — которые на наших глазах делятся. На поверхности почвенного комочка обосновались три вида микробов: одним хорошо наверху, другим — сбоку, третьим — на нижней поверхности комочка...
Снимем наши воображаемые очки. Поразмышляем.
Мы видим конец жизни и ее начало. Одни микробы разлагают отмершее, другие используют образуемые при этом минеральные вещества для формирования новых жизненно важных молекул. Невидимые завершают, замыкают круговорот веществ; они же и начинают новый круг. Они — и конечное и начальное звено жизни.
Еще в конце XVIII века известный русский агроном Иван Комов писал: «Одна вещь падает, другая на ее место встает; одна гниет, а другая растет, и части гниющей обращаются в состав растущей, а питательное вещество растений и животных беспрестанно то в землю нисходит и на воздух поднимается, то паки в землю опускается, подобно как воды из Океана — то на воздух восходят, то паки в Океан нисходят реками».
Хорошо владея образной речью, Комов представил нам непрерывный процесс, который позднее назван был круговоротом веществ в природе. И мы теперь знаем, что задают тон в этом круговороте микроорганизмы.
