Десять в плюс шестой
- 30.09.2010
Десять в плюс шестой

Порядочное время тому назад, готовясь писать очередную книгу, я неоднократно встречался с известным нашим цитологом, многие годы посвятившим изучению клетки. В ту пору мир находился под свежим впечатлением первого полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным. И мой ученый собеседник, заключая наши разговоры, несколько неожиданно для меня выразил такую мысль: «Смею вас заверить, что путешествие в недра клетки так же занимательно, как полет на Луну. Но, думается мне, человек прежде достигнет Луны, нежели познает все тайны живой клетки».
Сказал — как в воду глянул. Лет через пять -шесть после запомнившейся мне беседы, в 1969 году, на Луну впервые ступил человек — американский космонавт Армстронг.
А как же с клеткой? За истекшие после первого полета на Луну два десятилетия о ней, о клетке, узнано многое. Но далеко не все.
«Изучая поведение клеток высших растений, мы вступаем в «приключенческий» мир вероятных событий, которые, может быть, происходят...» — так пишет в научной статье крупный знаток клеточной технологии Раиса Георгиевна Бутенко.
Однако, еще не постигнув все тайны клетки, ученые уже вовлекли ее в технологию. Человек вообще нетерпелив. Мы далеко не все знаем об электрической энергии, о радиоизлучении, например. Но электричество и радио вошли в нашу повседневную жизнь так прочно, что нам и представить трудно, как это обходились без них наши предки.
Раиса Георгиевна Бутенко заведует отделом биологии клетки и биотехнологии Института физиологии растений Академии наук СССР. В лабораториях отдела выращивают вне организма, или, как принято говорить в научной среде, in vitro (в стекле), клетки высших растений. Это занятие весьма хлопотное. Прежде всего, тут требуется абсолютная стерильность. Ведь и клетка, изъятая из тканей организма, и питательная среда, в которую она помещена, должны быть ограждены от армады микроорганизмов и вирусов. С этой целью обеззараживают сосуды, в которых содержатся клетки, инструменты и, конечно, кусочки растительной ткани, которую подвергают изучению. Сосуды, в которых содержатся ткани и клетки, укупоривают так, чтобы ни микробы, ни вирусы не смогли проникнуть в них даже при длительном хранении исследуемого материала.
Клеточные инженеры, само собой понятно, вооружены лупами и микроскопами. Ведь ученые имеют дело нередко с кусочками растительной ткани, размером не превышающими 100—200 нанометров. Таковы, например, образцы, взятые из верхушечных точек растения. Размножаются также каллусные клетки (каллус — наплыв, ткань, образуемая у растений на месте повреждений). Наиболее сложны манипуляции с отдельными, изолированными клетками и с протопластами (протопластом называют оголенную растительную клетку, у которой удалена оболочка; содержимое клетки — цитоплазма со всеми ее органоидами и другими включениями — удерживается в протопласте лишь сверхтонкой клеточной мембраной).
Когда говорят о мастере, который делает вещи, требующие для своего выполнения очень высокой выучки, длительного опыта, то нередко употребляют прилагательное «ювелирный», «ювелирная точность». Но вряд ли какому-нибудь ювелиру приходится иметь дело с такой мерой длины, как нанометр...
Какие же цели преследуют клеточные инженеры, затевая столь сложные, дорогостоящие опыты?
Известно, что у многоклеточных организмов есть соматические (неполовые) и половые клетки; назначение половых клеток явствует из их названия: воспроизведение потомства. Но вот способна ли единственная клетка высшего многоклеточного растения превращаться в целое растение? Это одна из центральных проблем, занимающих клеточных биологов. Речь идет не вообще о вегетативном, давно известном и широко применяемом, размножении растений — отводками, черенками и так далее. Легче всего вызвать образование органов и тканей, используя зародыши и почки. Но если кусочек ткани ничтожно мал, то уже возникают затруднения.
Конечно, это научная проблема. Но не только. Ответ на вопрос, можно ли из одной или очень немногих клеток вырастить без особых сложностей целое растение, весьма интересен и для практического агронома, и вообще для всех, кто причастен к земледелию, к садоводству, цветоводству, к лекарственным растениям.
Для примера — картофель. Как его размножают? Сажают клубни, — всем это известно. Сколько же их надо высадить на гектар? По нормам, действующим в нашей стране, — 25—35 центнеров. Урожай картофеля в Советском Союзе низкий — в среднем 130 центнеров. Получается, что примерно около четверти его надо оставлять для посадок будущего года. Накладно, весьма даже накладно. Хранилища ведь хорошие надо иметь, помимо всего прочего.
А как быть иначе? Картофель цветет, семена приносит. Чем сажать клубни, почему бы не высевать их? Однако тут возникает столько препятствий, что многие специалисты считают эту идею утопической. Первое препятствие — семена картофеля еле видны простым глазом, в ягоде-коробочке их не менее ста штук; тут и сеялку не придумать, по одному семени класть в лунку, что ли?! Второе — у семян картофеля слабая энергия прорастания, их, стало быть, нельзя заделывать поглубже: росток не пробьется к свету и не даст корешков; в поверхностном же слое семя не успеет прорасти, оно быстро высыхает под солнцем. Третье — не все сорта картофеля (а их по всему свету насчитывают тысяч пять) дают семена, так что хочешь не хочешь, а такой сорт можно размножать только клубнями. Есть и четвертое препятствие — расщепление. Это означает, что если ты высеешь все сто семян из одной коробочки, то не рассчитывай, что вырастут сто одинаковых кустов; некоторые из них могут развить вкусные крупные картофелины, другие — мелкие и невкусные. Люди веками отбирали сорта для еды, для корма и других нужд. И в семенах откладывались, смешивались наследственные свойства.
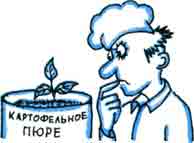
И все-таки ученые не оставляют надежды найти способ размножения картофеля семенами. Уж очень заманчиво весь семенной запас будущего года хранить не в картофелехранилище, где надо поддерживать определенную температуру и влажность, а в стеклянной банке. Но пока что опыты ведутся на грядках...
А тем временем в лабораториях стали разрабатывать способ размножения картофеля, о котором никто и не слыхивал, — рассадой. Предложили его клеточные инженеры.
Рассадой? Так это что же — высевать картофельные семена в ящики, а потом пересаживать ростки в поле? Морока-то какая!
Нет - нет, семена ни при чем. Рассада — из пробирок.

В одной из лабораторий Всесоюзного института растениеводства имени Н. И. Вавилова мне показали пробирку с питательной смесью, в которую поместили срезанный с верхушки картофелины кубик размером в десятую долю миллиметра. Другая пробирка: в нее положили такой же беленький едва различимый кубик. Но он уже сильно подрос, изменив цвет и форму, — это зеленый черенок. Через некоторое время его аккуратно разделят на пять, а то и десять частей; их продолжают растить до рассады, которую можно сажать в грунт.
Второй метод получения картофельной рассады — клеточный. Тут уж выдерживают в питательной смеси не кубик, а клеточную массу — нечто вроде кашицы. Смесь сдабривают веществами, ускоряющими рост и развитие растений. Спустя четыре-пять недель из бесформенной клеточной массы начинают обособляться зеленые побеги,, а затем и корешки картофельных растеньиц. Из одного клубня, превращенного в такую кашицу, можно получить за недолгий срок тысячу и более растений.
Выращенная такими способами рассада обладает важной особенностью: она свободна от возбудителей болезней, бактериальных, грибных, даже вирусных, которые донимают картофель особенно. Конечно, в грунте растения от болезней не застрахованы. Но одно дело, когда посадочный материал уже заражен, другое дело, когда бактерии, грибу, вирусу надо еще найти и освоить здоровое растение.
Кроме того, ученый, имея дело с огромным числом молодых растений, выведенных из клеток, может отобрать те из них, которые устойчивы к наиболее опасным болезням, например, к фитофторозу. Его вызывает паразитический гриб, угнетающий растение. Содержащиеся в грибе ядовитые вещества нетрудно выделить и ввести в питательную среду, где выращиваются клетки, взятые из картофельного клубня. Клетки, не переносящие токсины, погибнут, а из выживших вырастут растения, которым уже наверняка фитофтороз будет не страшен. Селекционер, поставивший перед собой задачу вывести устойчивый к фитофторозу сорт картофеля обычными методами, вооружившись терпением, потратит на это годы и годы. Клеточная технология вооружит его — будем надеяться, в недалеком будущем — таким методом отбора, о каком в недавние времена селекционеры и не мечтали.
Клеточные инженеры уже постигли тайны выращивания ускоренным способом таких важных лекарственных растений, которые в природе или на плантациях растут очень медленно либо вообще встречаются крайне редко.
Женьшень — овеянное легендами чудодейственное растение. Его родовое название — панакс, по латыни «всеисцеляющий». Это древнее растение, доставшееся нам в дар от третичного периода. Большинство его сородичей вымерли несколько миллионов лет назад, он же сохранился в одном уголке планеты — в широколиственных лесах нашего Дальнего Востока, Северной Кореи и Северо-Восточного Китая. Он не похож на растения, появившиеся на Земле в более поздние геологические времена. По выражению одного из ботаников, женьшень «как бы деревце, прикидывающееся травой». В самом деле, какая трава может жить сто лет и более?! А какое деревце ежегодно отмирает, отрастая вновь от корня каждую весну?! Более того: виданное ли дело, чтобы растение впадало в спячку, в летаргический сон, длящийся иногда несколько десятков лет! С женьшенем и такое случается.
Корень женьшеня схож с человеческой фигуркой. Отсюда и китайское название растения: «жень» — «человек», «шень» — «корень». В восточной медицине женьшень употребляется четыре, а возможно, и пять тысячелетий. Слава его не померкла и доныне, хотя современная медицина и не считает его средством от всех болезней. При некоторых болезнях женьшень применяют как лекарство. Но прославился он как стимулятор, как взбадриватель, если можно так выразиться. Даже при одноразовом приеме настойки из корня снижается усталость и резко повышается работоспособность. Он дает дополнительные силы космонавту, водолазу, добытчику нефти, сталевару. Он очень хорошо действует при сильном, длительном умственном напряжении, — к примеру, если человек засиживается за письменным столом до поздней ночи. Здоровому человеку женьшень придает бодрость, больному помогает преодолеть болезнь.
Однако попробуйте купить настойку женьшеня в аптеке. Даже при наличии рецепта вы далеко не всегда ее приобретете. Потребность намного превышает спрос. Женьшень, как мы уже знаем, растет лишь в одном районе земного шара. И растет очень медленно. И дикорастущие его запасы невелики — искатели женьшеня выискивают корень жизни, который всегда ценился дороже золота.
И женьшень принялись выращивать на грядках. Первыми были китайцы. Их примеру последовали корейцы, японцы. Появились плантации корня жизни и в нашей стране. И не только на Дальнем Востоке.
В Теберде живет и работает биолог и писатель, автор повестей и документальных книг Алексей Александрович Малышев. Недавно ему исполнилось восемьдесят лет. Но он продолжает трудиться и за письменным столом, и на участке, где он выращивает женьшень. Лет сорок отдал он этому любимому своему делу.

Его плантация на северном склоне Главного Кавказского хребта — первая в Европе. О трудностях, преодоленных Малышевым, говорит хотя бы такой факт: ему пришлось менять участки для выращивания привередливого растения тринадцать раз. То женьшеню слишком много света, то его угнетает избыток тени от буковых деревьев; то место слишком ровное, то уклон слишком крут. И вот цифра «13» оказалась счастливой: теперь растения развиваются нормально, хотя и растут, как им положено, неторопливо.
Женьшень теперь выращивают и под Ленинградом, и под Киевом. Занимаются им и профессиональные растениеводы, и любители. Но его все равно недостает.
На помощь пришли клеточные инженеры. Женьшень стали выращивать на биохимических заводах в виде клеточной массы, содержащей те же физиологически активные вещества, что и настойка из корня дикого растения.
Подобным методом получают и некоторые другие лекарственные растения.
Клеточные технологии позволяют добывать ценные продукты из тропических растений, которые в наших широтах не произрастают. Ну и, ясное дело, такое «растениеводство», которое ведется не в поле, а на заводе, позволяет применить автоматику, компьютеры — все то, что характерно для современной индустрии.
Многие растения, очень важные для медицины, для пропитания быстро растущего населения, исчезают. Особенно быстро вырубаются тропические леса, таящие в себе еще не до конца исследованные растительные богатства. Исчезновение же любого вида невосполнимо. Но разводить на плантациях редкие или находящиеся на грани истребления растения не всегда легко. Мы уже это видели на примере с женьшенем. А с помощью клеточных технологий можно сохранить и размножить многое из того, что вот-вот исчезнет безвозвратно.
Клеточная технология, как и генная инженерия, да и вообще биотехнология, находится в начале своего пути. И каждый шаг дается клеточным инженерам очень и очень нелегко. К примеру, сотрудники Всесоюзного института растениеводства потратили на разработку методов размножения картофеля рассадой не менее пяти лет.
Много еще в биологии клетки неясного, неразгаданного. Из растительной клетки можно вырастить целое растение, из животной клетки целостный организм воссоздать нельзя. Но и среди растений есть упрямцы, которые не поддаются усилиям клеточных инженеров. К таким упрямцам относятся зерновые злаки и некоторые бобовые растения. Никак не удается получить растения из клеток пшеницы, ржи, ячменя, сои, бобов.
«И нет вполне удовлетворительного объяснения этому, — говорит Раиса Георгиевна Бутенко. — Только догадки».
И все же.
Есть такой термин — клон. Это группа клеток, полученных от одной исходной. Все дочерние растения клона, полученные таким способом, генетически идентичны — вполне подобны — материнскому. Это позволяет с помощью клонального микроразмножения получить быстро такое число растений, какое никакими другими способами не вырастишь.
Раиса Георгиевна поясняет: «Клональным микроразмножением называют быстрое неполовое размножение in vitro растений, строго идентичных исходному. Слово «микро» подчеркивает миниатюризацию процесса в сравнении с традиционной техникой вегетативного размножения черенками, отводками, усами, прививками. И это одно из преимуществ новой технологии. Не требуется больших площадей, в том числе и тепличных, для размножения маточных растений и черенков, а процесс идет очень быстро и с высоким выходом, например, от одной инициали (особи. — М. И.) можно получать 10°—106 растений в год».
Десять в пятой степени — сто тысяч. Десять в шестой — миллион!
Да, одна цифра может иногда заменять многие рассуждения и пояснения.
