Краткий очерк жизни
Автор настоящего очерка не ставил своей задачей создание чисто научной биографии профессора Владимира Георгиевича Гептнера (достаточно полные публикации в этом жанре были напечатаны в отечественных и зарубежных журналах по поводу 60—70-летних юбилеев и в некрологах), но видел свою главную цель в сообщении биографических сведений, никогда ранее не публиковавшихся, или в освещении событий, сыгравших существенную, иногда трагическую роль в его жизни и так или иначе определивших ее течение. Разумеется, избежать описания определенных этапов его научной карьеры было невозможно, так как вся жизнь Владимира Георгиевича начиная со студенческой скамьи и кончая самыми последними днями была целиком отдана науке.
Род Гептнеров, видимо достаточно древний, ведет свое происхождение из Германии. Относительно конкретного места происхождения и рода занятий предков данных на сегодняшний день нет. Однако этимология фамилии указывает на возможную принадлежность к крестьянскому сословию, так как, если отбросить русификационные и диалектальные искажения, она первоначально звучала как "Hopfner", что переводится как "хмелевод". Немецкое происхождение семьи, не имевшее до революции никакого значения в социальном отношении, в советское время было зафиксировано в паспортах нового образца (в Царской России была лишь графа — "вероисповедание") и сыграло большую и даже трагическую роль в судьбах как самого В.Г., так и его братьев и сестры. Все это было тем более нелепо, что В.Г. (как и его родители) был человеком русской культуры и истинного русского национального самосознания и патриотизма.
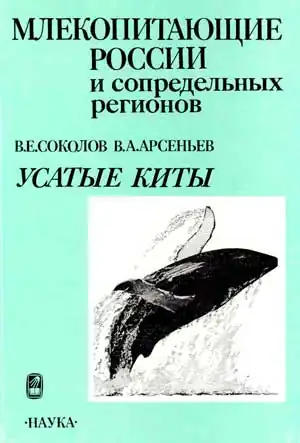
Первые документальные сведения о семье Гептнеров удается обнаружить в Риге, где в XVIII в. прадед В.Г., Карл Вильгельм Гептнер, как явствует из посемейных списков Рижского податного управления, был то ли купцом, то ли ремесленником. Точные даты его жизни неизвестны. О них приближенно можно судить по году рождения его жены (1772 г.), Анны Катарины Элизабет Гептнер (урожденной Корш). Дата ее смерти неизвестна, известно лишь, что в 1896 г. ей исполнилось 104 года. В семье было три дочери и три сына, из которых Андреус Юлиус (1812—1883), в начале жизни купец, а затем бухгалтерский служащий на двух заводах в Санкт-Петербурге, стал дедом В.Г. По вероисповеданию все были лютеране. Один из двух сыновей последнего (было еще две дочери), Георгий (Георг-Юлиус) Андреевич (1867—1935), родившийся в Санкт-Петербурге, стал отцом В.Г. Мать В.Г., Валерия (Валерия Цецилия) Августиновна (урожденная Ковалевская), также лютеранского вероисповедания, представляла в роду немецко-польскую линию, ведущую происхождение из Познани, а точнее, небольшого городка Кратошина. Оттуда ее отец, Августин Георгиевич, типографский наборщик, владевший польским, немецким, французским языками, знавший также латынь и греческий, переехал в С.-Петербург, а затем во Владимир, где работал в типографии Владимирского губернского ведомства. Его дети (девять братьев и сестер) осели во Владимире и Москве. В 1896 г. 20-летняя Валерия Августиновна обвенчалась во Владимирской евангелическо-лютеранской церкви с Георгием Андреевичем Гептнером.
Отец В.Г. переехал в Москву из Петербурга в 70-х годах прошлого века, окончил Московскую земледельческую школу, пять лет служил в армии, затем бухгалтером в Московском котлостроительном заводе Бари, а с 1901 г. отправлял должность кистера и управляющего делами и бухгалтера реформатской лютеранской церкви в Малом Терхсвятительском (ныне Малый Вузовский) переулке у Покровского бульвара и имел при ней квартирку. Теперь дом целиком принадлежит Всероссийской общине Евангельских христиан-баптистов и адвентистов седьмого дня. С 1918 по 1924 г. работал бухгалтером в ряде советских учреждений. Валерия Августиновна, благодаря прекрасному знанию иностранных языков, работала переводчицей и корректором в Институте иностранных языков. В семье было пятеро детей: сыновья Александр (1898—1900), Владимир (1901—1975), Георгий (1905—1951), Эрик (1907—1944) и дочь Галина (1915—1976):
До революции семья жила небогато, но в достатке. Родители постарались дать старшему сыну хорошее образование и отдали его в дорогую швейцарскую реформатскую школу-гимназию. Школа давала прекрасное по тем временам образование с обязательным знанием нескольких иностранных языков. Ее директором был известный своими научными трудами математик М.Ф. Берг. Учителя были высоко и разносторонне образованными личностями. Среди них многие обладали известными в науке именами. Некоторые были профессорами Московского университета, как, например, историки B.C. Соколов и В.Н. Бочкарев. Неудивительно поэтому, что из стен гимназии вышло заметное число крупных деятелей культуры и науки, учившихся одновременно с Владимиром Георгиевичем. Среди них можно назвать актера МХАТ А.Н. Глумова, актера театра Евг. Вахтангова А. Горюнова, известного пианиста Л. Оборина, знаменитого иллюзиониста Э. Кио, профессора-филолога Б. Пуришева, профессора-психолога Ф. Шемякина, доктора медицинских наук Я. Гильберта, дипломата, посла СССР в США и Мексике К. Уманского, участника исторического папанинского дрейфа, доктора географических наук Э. Кренкеля.
В семье Гептнеров не было биологических традиций. Первые впечатления от общения с природой были получены В.Г. во время летних каникул, которые он с братьями проводил на дачах под Владимиром у своей бабушки, Эммы Ивановны Ковалевской, на берегу р. Клязьмы и ее притока Колокши (станция Колокша). Обе реки в те времена были полноводны и богаты рыбой, а окрестная природа, тогда еще мало измененная человеком, давала богатые впечатления детской наблюдательности, пробудившей в нем талант прирожденного зоолога. Этот талант, начавший быстро развиваться, привел его, юного гимназиста, в Зоологический музей Московского университета, к профессору М.А. Мензбиру, знаменитому зоологу и орнитологу. Профессор Мензбир, отличавшийся внешней строгостью и суровостью в отношении студентов и людей старшего поколения, был в то же время чрезвычайнно открыт и доступен юным школярам, проявлявшим интерес и склонность к зоологии. Он прекрасно понимал, как важно открыть и поддержать природный талант именно в самом начале его проявления. Эта встреча, по-видимому, окончательно определила судьбу В.Г.
В 1919 г. В.Г. поступил на Физико-математическое отделение Московского государственного университета и уже в октябре начал заниматься по орнитологии у еще молодого тогда ассистента СИ. Огнева. В группу входили Воробьев, Промптов, Перелешин, Юрканский и Соболевский, ставшие впоследствии видными орнитологами. С этого времени начинается интенсивная экспедиционная деятельность В.Г., в процессе которой и под влиянием учителей, выдающихся зоологов М.А. Мензбира, П.П. Сушкина, С.А. Бутурлина, СИ. Огнева и Г.А. Кожевникова сложились основные сферы его научных интересов, которым он остался верен до конца жизни.
Первые орнитологические экскурсии были предприняты совместно с К.А. Воробьевым по предложению профессора Кожевникова уже весной 1920 г. в поймы Оки, Пахры, Яхромы, в леса Подольского и Серпуховского уездов и на озеро Сенеж. Но уже летом по предложению профессора Мензбира он вместе с Н.И. Соболевским был командирован как орнитолог в большую Тургайскую мелиоративную экспедицию Народного комиссариата земледелия в Тургайскую (ныне Кустанайскую) область. Он вернулся лишь в ноябре 1921 г., собрав большие коллекции и обогатившись опытом серьезной полевой работы. В этой поездке его поразили красота и приволье открытых степных пространств, любовь к которым осталась в нем на всю жизнь. Сдав экстерном экзамены в университете за два года, уже летом 1922 г. В.Г. снова вместе со своим другом К.А. Воробьевым принял участие во втором этапе руководимой СИ. Огневым Воронежской зоологической экспедиции, базировавшейся на знаменитой Докучаевской опытной станции в Каменной Степи. Молодые зоологи вели орнитологические наблюдения в Хреновском бору, в долине р. Усмани и на озере Битюг. Летом того же года на средства Наркомпроса СИ. Огнев вывез своих учеников — Воробьева, Шибанова, Гептнера при участии Л.Б. Беме — в почти не исследованный тогда Дагестан в двухнедельную экспедицию. Зоологи обследовали окрестности Махачкалы, Хасав-Юртовский и часть Буйнакского округов. Здесь впервые В.Г. побывал в предгорных и горных ландшафтах и приобрел вкус к териологическим исследованиям. Работы в Дагестане продлились летом следующего, 1924, года в Нагорном Дагестане, в его Южном и Кизлярском округах. Была обследована территория до границ Грузии на юге и побережья Каспия на востоке. Экспедиция была проведена на средства Дагнаркомпроса и завершилась для В.Г. в г. Пятигорске, на Учредительном съезде Северо-Кавказской горской краеведческой ассоциации в начале сентября. Здесь В.Г. сделал свой первый научный доклад "Охрана природы и краеведение", тезисы которого были опубликованы в материалах отчета. Они же стали его первой печатной работой, ознаменовавшей начало его постоянных научных интересов и деятельности в области охраны природы и заповедного дела.
В 1925 г. В.Г. окончил университет и поступил в аспирантуру к проф. Г.А. Кожевникову и С.И. Огневу. В том же году (апрель—июль) В.Г. вместе с Огневым и под его руководством на частные средства отправляется в экспедицию в Туркестан (тогда Закаспийскую область), в горы Копет—Дага и на прилежащую равнину, при участии директора Туркменского музея в Ашхабаде, зоолога СИ. Билькевича (позднее репрессирован и погиб в концлагере). Препаратором был С.А. Александров, препаратор покойного Н.А. Зарудного. К этому времени отношения между учителем, СИ. Огневым, и учеником, В.Г., сложились в крепкую дружбу. Несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте, они перешли "на ты", и эта ничем не омрачавшаяся дружба продолжалась до последних дней С.И. Огнева. Так сказать, официальное объявление об этой дружбе было сделано Сергеем Ивановичем в их совместной работе, опубликованной в 1929 г. Во введении к ней В.Г. характеризуется как "...мой друг и постоянный спутник В.Г. Гептнер, оказавший в работе неоценимые услуги". С.И. Огнев, которого В.Г. считал одним из своих учителей, поощрял его склонность к таксономическим исследованиям, а их совместное путешествие помогло выбрать и первый достойный объект для изучения — грызунов, и прежде всего группу песчанок. Именно серия публикаций по песчанкам позднее принесла ему мировую известность. Туркмения произвела на В.Г. огромное впечатление и сыграла большую роль в его жизни. Впоследствии он возвращался туда неоднократно. Опубликовав ряд работ по Дагестану, В.Г. снова едет в Туркестан в 1927 г. В этой экспедиции обследованы долины рек Чандыра, Сумбара, Западный Хорасан, ущелья Чули и Фирюза, окрестности Ашхабада. В Ашхабаде, в доме СИ. Билькевича, где постоянно собиралась интеллигентная молодежь небольшого тогда города, В.Г. познакомился со своей будущей женой Ниной Сергеевной Рудневой.
Нина Сергеевна родилась в 1905 г. в горном Дагестане, в местечке Дишлагар, где был в то время расквартирован Самурский пехотный полк, в котором служил ее отец, потомственный офицер, Сергей Иванович Руднев. Самурский полк время от времени менял свою дислокацию, и поэтому Нина Сергеевна училась сначала в Институте благородных девиц в Тифлисе, а затем в гимназиях различных городов Северного Кавказа, в советское время — в Баку. Во время первой мировой войны ее отец воевал на Львовском направлении, стал георгиевским кавалером, а к концу войны — генералом. В гражданскую войну служил у красных, но вскоре перешел в Белую армию и стал одним из командующих ее частями, воевавшими на Кавказе. В 1920 г., после падения муссаватского правительства и захвата Баку большевиками погиб во время красного террора. В соответствии с советскими порядками тех времен Нина Сергеевна как дочь белого офицера, а тем более достаточно известного военачальника была ограничена в правах и после окончания средней школы не смогла продолжить образование. После 1920 г. семья переехала в Ашхабад, где Нина Сергеевна работала машинисткой в различных советских учреждениях.
Одним из учителей В.Г., оказавшим большое влияние на формирование его научных интересов, был профессор, в то время заведовавший кафедрой зоологии позвоночных животных МГУ, охотник, путешественник, крупный знаток Севера и охотничьего промысла Борис Михайлович Житков. Под его патронажем уже через год после возвращения из Туркмении, летом—осенью 1938 г., В.Г. был командирован в научно-промысловую экспедицию Комсевморпути в Арктику для изучения возможностей зверового промысла. В этой экспедиции В.Г. посетил Белое, Баренцево, Карское моря, острова Диксон и Таймыр на зверобойной шхуне "Профессор Борис Житков" (бывший "Андрей Первозванный"). Планы экспедиции составляли с Житковым. Основной интерес — промысел белухи. Результатом стала обширная 100-страничная публикация (фактически монография) по белухе, исследование по экономике ее промысла в Норвегии и заметки о млекопитающих Таймыра.
Однако Север, несмотря на хорошо известную его притягательность, не повлиял на привязанность В.Г. к азиатским просторам. В 1929 г. он вновь едет в Туркестан, Западные и Восточные Каракумы и Репетек также в рамках промысловых интересов на средства Центральной пушной конвенции и Пушногосторга. И тоже под вдохновляющим покровительством Б.С. Житкова.
Интерес к среднеазиатской фауне углублялся, и в 1929 г. летом В.Г. снова в Азии. Но на этот раз в Узбекистане, в составе совместной экспедиции Наркомзема УзССР и Зоологического института АН СССР под общим руководством профессора, известного санкт-петербургского териолога Б.С. Виноградова. Маршрут: Самарканд—Коканд—Фергана—Самарканд. В результате в 1936 г. появилась совместная с Виноградовым и А.И. Аргиропуло монография "Грызуны Средней Азии", в которой В.Г. написан раздел по любимым им песчанкам.
В 1930 г. В.Г. и Нина Сергеевна поженились и они с матерью переехали из Ашхабада в Москву. Последующие затем три года были отданы публикациям по грызунам, пушному делу и промыслу. Репрессии 1933 г. не миновали и семью В.Г. В этот год он вместе с женой был арестован по доносу их общей знакомой и осужден по статье 58/10 к трем годам лагерей. По тем еще довольно либеральным временам — срок относительно небольшой. После предварительного заключения в Бутырской тюрьме В.Г. был отправлен в Мариинские, а Нина Сергеевна — в Новосибирские лагеря Сибирского отделения ГУЛАГа (Сиблаг). В том же году в должность генерального прокурора вступил А.Я. Вышинский, который в начале своей карьеры на этом поприще предпринял пересмотр ряда дел. В их числе, к счастью, оказалось и дело супругов Гептнер. Обвинения были признаны сфабрикованными, и через полгода В.Г. и Нина Сергеевна были освобождены и вернулись в Москву. Тем не менее факт пребывания в лагере как клеймо гражданской неполноценности оставалось на нем долгие годы, возбуждая подозрения в известных кругах, особенно обострившиеся во вторую волну репрессий в конце тридцатых годов и в военное время.
В предшествующие годы интенсивных экспедиций были накоплены обширные материалы, и пребывание в лагере никак не отражается на интенсивности публикаций. А уже в 1934 г. летом В.Г. вместе с С.С. Туровым и известным художником-анималистом А.Н. Комаровым отправляется в практически не изученный в то время Горный Алтай. Под руководством С.С. Турова экспедиция прошла конным караваном по рекам Кыге, Чулышману, Тушкену, обследовала берега Телецкого озера. Результаты этого путешествия, одной из лучших и наиболее ярких по впечатлениям поездок, тем не менее не оставили никакого следа в работах В.Г. в виде специальных публикаций. Это объясняется, по-видимому, интенсивной работой над ранее собранными материалами, работой над "Грызунами Средней Азии" и "Общей зоогеографией". В том же 1934 г. В.Г. был утвержден в звании профессора Биологического факультета, а в 1936 г. после выхода в свет упомянутых книг ему была присвоена ученая степень доктора биологических наук без защиты диссертации.
Интерес В.Г. к систематике, и в том числе к структуре вида, понимавшейся им достаточно широко, продолжает углубляться. И в этой связи летом 1936 г. им была предпринята небольшая экспедиция от Зоологического музея в Крымский заповедник для исследования местной фауны грызунов. Результатом была известная его работа, высоко ценимая "грызунятниками" прежде всего, "Лесные мыши Горного Крыма", опубликованная, правда, значительно позднее (1940 г.).
Последующие пять лет — годы интенсивной научной и педагогической деятельности и общего подъема продуктивности работы, достигшей максимума к 1941 г. Из них 1940 год ознаменовался рождением сына Михаила. В 1941 г. В.Г. переходит с должности заведующего Отделом териологии Зоологического музея на должность профессора кафедры зоологии позвоночных животных. И в том же году — война, разразившаяся в день его рождения, 22 июня. Сразу же начались бомбежки и ночные дежурства В.Г. вместе с другими сотрудниками на крыше Зоомузея в дружине по борьбе с зажигательными бомбами врага. Осенью с приближением фронта к Москве развернулась эвакуация университета в Ашхабад, и факультета в том числе. Однако эвакуировались не все факультеты. Так, например, Исторический не только не уехал, но и вообще не прерывал своих занятий. Не захотели покинуть университет и профессора Биологического факультета СИ. Огнев, Б.С. Матвеев и некоторые другие. Собирался остаться и В.Г. Однако его вынудили уехать, недвусмысленно дав понять, что в противном случае он снова окажется в руках НКВД. Нешуточность такой перспективы показала судьба его брата Георгия, классного летчика, в первые дни войны водившего тяжелые самолеты с боеприпасами для снабжения передовой и тем не менее вскоре как немца заключенного в концентрационный трудовой лагерь под Норильском. Там вместе с будущим академиком Б.В. Раушенбахом (ныне председателем движения российских немцев за государственную автономию, коллегой знаменитого ракетостроителя СП. Королева) он провел несколько первых военных лет, работая в кузнице молотобойцем.
29 октября с последним эшелоном (руководство факультета отбыло 16 октября) семья В.Г. выехала в Ашхабад. Эшелон едва успел проскочить мост через Оку, прежде чем он был разрушен авиацией противника. Также счастливо удалось выйти из-под бомбежек у г. Михайлова и миновать мост через Волгу у Саратова.
Снова оказавшись в любимой им Туркмении, В.Г., несмотря на трудности военного времени, продолжил полевую работу, возглавив летом 1942 г. экспедицию, организованную университетом совместно с Управлением по заповедникам Туркмении в только что созданный Бадхызский заповедник. Весь маршрут был пройден караваном верблюдов. Несмотря на тяжелейшие условия путешествия в жаркой безводной стране, В.Г. вернулся в Ашхабад, полный планов дальнейших исследований Бадхыза. Здесь он с огорчением узнал, что факультет переводят в Екатеринбург и часть ученых уже уехала. Остаться значило расстаться с университетом.
По приезде в Екатеринбург В.Г. с семьей тотчас оказался под пристальным вниманием местного НКВД, сразу же решившего проявить бдительность и отправить его как немца в концлагерь, а жену с престарелой матерью и двухлетним сыном выслать в сельскую местность. Уже были отобраны паспорта и коллеги собирали для В.Г. теплые вещи. Судьбу решила случайная уличная встреча с зоологом Борисом Владимировичем Образцовым, братом известного актера-кукольника СВ. Образцова. Их отцом был известный ученый в области железнодорожного транспорта, академик, член президиума АН СССР Владимир Николаевич Образцов, организатор и руководитель всех военных перевозок страны, носивший звание Генерал-Директор Движения 1-го ранга, что соответствовало воинскому генерал-полковнику. По рекомендации сына Бориса и после ознакомительной беседы с В.Г. Образцов старший, человек чрезвычайно влиятельный, принял меры, отобранные паспорта были возвращены, и семью оставили в покое.
Жизнь в уральском городе была чрезвычайно трудной и голодной, многие, и в том числе В.Г., страдали от недоедания, всякая научная работа прекратилась. Тем не менее В.Г. продолжал работать над материалами о кулане. В 1943 г. руководство факультета добилось его возвращения в Москву. Однако здесь В.Г. постиг новый удар. Ему как немцу по паспорту в возвращении органами НКВД было отказано. После отъезда коллег он, по его собственному выражению, "остался, как медуза на берегу при отливе". Из университета он был отчислен и стал заведовать кафедрой в Екатеринбургском педагогическом институте. Однако друзья и коллеги В.Г. настойчиво хлопотали о возвращении В.Г. Наконец, весной 1944 г. усилиями декана факультета С.Д. Юдинцева, В.И. Цалкина и С.С. Турова после писем декана секретарю ЦК партии по идеологии А.А. Жданову и обращения 12 профессоров Биологического факультета к Наркому внутренних дел Л.П. Берии разрешение было получено. В начале лета семья вернулась в Москву, а В.Г. был восстановлен в должности профессора факультета.
Но радость возвращения вскоре была омрачена новым ударом — 1 июля 1944 г. погиб на Балтике младший любимый брат В.Г., командир бомбардировщика-торпедоносца Эрик. Его судьба была трагична. Великолепный пилот, 36-летний опытный и очень смелый летчик, прошедший еще до войны службу в армии, он с первых дней войны рвался на фронт. Однако, согласно специальному приказу Сталина, предписывавшему изъять всех немцев из армии, доступ туда ему был закрыт. И все первые три года войны, пока средний брат Георгий находился в концлагере, он летал на внутренних линиях в Сибири, перегонял военные самолеты с Дальнего Востока на запад. Там, на аэродроме в Иркутске в июле 1943 г. он случайно встретил своего старого друга Героя Советского Союза И.Г. Шаманова, летчика 1-го гвардейского краснознаменного Клайпедского минно-торпедного авиаполка, прославленного своими регулярными дерзкими бомбардировками Берлина и Штеттина (Щецина) с 7 августа по 4 сентября 1941 г. И.Г. Шаманов, невзирая на запрет, привез Эрика Георгиевича на своем самолете прямо в полк, базировавшийся под С.-Петербургом. Э.Г. сразу же стал летать на боевые задания, не имея еще ни воинского звания, ни даже обмундирования. Лишь позднее по официальному поручительству своего давнего коллеги по авиации, хорошо знавшей его изестной летчицы, командира 31-го гвардейского бомбардировочного авиаполка Героя Советского Союза B.C. Гризодубовой перед командующим военно-морскими силами адмиралом Н.Г. Кузнецовым и командующим военно-воздушными силами флота генерал-полковником С.Ф. Жаворонковым был официально зачислен в полк. За неполный год полетов он был награжден четырьмя орденами Боевого Красного Знамени, не считая медалей, и незадолго перед гибелью, 16 июня, представлен к званию Героя Советского Союза. В дальнейшем неоднократно и особенно в последние годы своей жизни В.Г., всегда ощущавший свой нравственный долг перед братом, приложил немало усилий для восстановления справедливости и посмертного награждения брата. Но, увы, тщетно. Причиной было все то же немецкое происхождение семьи.
После возвращения из эвакуации жизнь быстро входила в рабочий ритм. Интенсивность публикаций В.Г. не ослабевает. Параллельно идет чтение нескольких курсов лекций. Среди статей главное место занимают работы по фауне Туркмении, пустынно-степной фауне в целом и ее развитию. Одновременно по инициативе и настоянию В.Г. и под его постоянным редакторским надзором была переведена первая из серии книг Э. Майра "Систематика и происхождение видов". К ней В.Г. была написана фактически самостоятельная обзорная работа-предисловие "Проблема вида в современной зоологии", отразившая тот постоянный интерес к эволюции, который был для него характерен всегда. Изданием этой книги В.Г. помог приобщению широких кругов отечественных зоологов к современным представлениям об эволюции, существенно ускорив работы в этой области в нашей стране.
Однако большие заделы по туркменской фауне и готовящаяся книга по фауне позвоночных животных Бадхыза настоятельно требуют новых материалов и весной— летом 1948 г. В.Г. снова едет в любимую Туркмению, в свою вторую Бадхызскую экспедицию, план которой сложился еще в 1942 г. На этот раз экспедиция, проходившая снова под его руководством, была не так трудна, как первая, так как передвигалась на грузовом автомобиле и была, естественно, во всех отношениях лучше оснащена. Работа прошла спокойно и успешно. Но вскоре после возвращения В.Г. разразилась знаменитая и действительно историческая сессия ВАСХНИЛ со знаменитым докладом, вошедшим тогда, после ареста и гибели в заключении академика Н.И. Вавилова, в силу Т.Д. Лысенко "О положении в биологической науке", одобренном ЦК КПСС. Наступило время реакции и торжества лысенковщины, черные дни и годы разгрома биологии в нашей стране, освященные и поощряемые поддержкой всесильной партии. Начались увольнения ведущих генетиков и эволюционистов и преследования всех "немичуринцев". Деканом биологического факультета вместо уволенного С.Д. Юдинцева стал один из столпов лысенковщины И.И. Презент. В.Г. был заклеймен ярлыком "морганист" и осужден мичуринцами за взгляды, высказанные в предисловии к книге Э. Майра и поддержку идей опального академика И.И. Шмальгаузена. Газета "Московский университет" осуждающе отметила в этой связи (2 октября 1948 г., № 35/36): "...профессора Биологического факультета Зенкевич и Гептнер умолчали о своих серьезных ошибках в оценке деятельности представителей антимичуринского направления в биологии". Естественно, все годы, пока И.И. Презент оставался деканом факультета, В.Г. находился под пристальным вниманием факультетских мичуринцев.
Тем не менее конец сороковых годов явился началом нового длительного (более двадцати лет) периода жизни В.Г., в течение которого уже не было больше крупных экспедиций, но наступило время регулярной работы по отдаче накопленных знаний, развитию работ во всех достаточно разнообразных областях его научных и прикладных интересов, преподавательской и общественно-научной деятельности. Жизнь приобретает более равномерное течение. Этому в немалой степени способствовал и впервые в жизни начавшийся регулярный летний отдых в красивейших местах Рязанской области, на Оке, в селе Копаново, недалеко от Окского заповедника. В этих полюбившихся и ставших ему родными местах В.Г. начиная с 1950 г. проводит с семьей в кругу друзей каждое лето, увлеченно предаваясь рыбной ловле и охоте и продолжая в то же время работу и полевые наблюдения. Вместе с тем 1950 и 1951 годы стали для В.Г. и временем тяжелых утрат. Б Конце 1950 г. скоропостижно скончался близкий друг В.Г. профессор энтомолог А.А. Захваткин, а в 1951 г. еще относительно молодым человеком — последний брат В.Г., Георгий, и старший друг и учитель профессор СИ. Огнев. Все эти утраты не могли не отразиться на душевном состоянии и здоровье В.Г. Этому в немалой степени способствовало и поражение природоохранного движения в борьбе за сохранение заповедной системы страны, созданию и развитию которой было отдано немало сил и самого В.Г. Система заповедников в процессе продолжающегося стратегического "мичуринского" наступления на биологию была "реорганизована", или, попросту говоря, разгромлена. В результате суммарная площадь заповедников страны сократилась в 10 раз.
Внезапная кончина профессора Огнева в возрасте всего лишь 65 лет существенно осложнила и поневоле изменила жизненные планы В.Г. Сам Сергей Иванович в последние годы почувствовал, что ему не хватит жизни, чтобы закончить издание своего титанического труда "Звери СССР" в одиночку. Он планировал закончить VIII том при участии В.Г. (песчанки) и заняться переработкой и дополнением уже изданных томов, а оставшиеся ненаписанными группы поручить другим авторам, сохранив за собой общее руководство изданием. Уход из жизни профессора Огнева поневоле поставил В.Г. перед необходимостью как его ближайшего ученика, друга и преемника по Музею продолжить издание, начатое СИ. Огневым. При этом в начале ему пришлось работать как редактору над IX (VIII так и оставшимся незавершенным) томом, "Китообразные", написанные А.Г. Томилиным (напечатан в 1957 г.). В то же время В.Г. решает начать фактически новую серию томов по млекопитающим, воплотив в ней намерение СИ. Огнева довести до современного уровня уже изданное и продолжить на таком же уровне незавершенное. Так, в известной степени волею судьбы и обстоятельств, а не собственных намерений началась работа над новой серией томов под общим названием "Млекопитающие Советского Союза", которая стала для него главным делом на всю оставшуюся жизнь. Он это хорошо понимал, воспринимая необходимость такой работы в определенной степени как долг, требовавший даже частичного отказа от личных планов, в том числе от своей мечты о переиздании "Общей зоогеографии", к которой он постоянно подбирал новую литературу.
"Млекопитающие" с самого начала стали трудом коллективным. Публикация началась с группы, которую СИ. Огнев не успел затронуть, — Копытные. Таким образом, "Млекопитающие" удачно сочетали в себе по форме, с одной стороны, работу совершенно новую, а с другой — стали естественным продолжением "Зверей" СИ. Огнева. В 1961 г. увидел свет том 1, Парнокопытные и Непарнокопытные (в 1966 г. вышел его немецкий перевод в Восточной Германии, а в 1988 г. — английский в Индии. В 1968 г. — том 2, ч.1, Морские коровы и Хищные (издана в Германии в 1974 г.), ч. 2, Гиены и Кошки, вышла в 1972 г. (издана в Германии), ч. 3, Ластоногие и Зубатые киты, вышла уже после кончины В.Г., в 1976 г.
Работа над "Млекопитающими" не отразилась на интенсивности ежегодных публикаций В.Г. В определенной степени она стала и дополнительным источником новых тем, так как в процессе работы над книгой возникали попутные проблемы, решение которых становилось предметом самостоятельных статей. Вместе с тем список печатных работ в эти годы продолжает отражать широту интересов и разнообразие литературных жанров, в которых он выступал. Общее число публикаций в год остается на уровне 6—8 (1974 г. — 10), а в 1975, году смерти, вышло 5 работ. Публикации продолжали выходить и в 1976 г. и даже позднее. Таким образом, неожиданная болезнь и кончина застали В.Г. в буквальном смысле в разгар работы.
Преимущественно кабинетная работа, начавшаяся с 50-х годов, не заглушила в В.Г. столь характерных для него стремлений к экспедиционной работе и тягу к природе, особенно усилившихся в последнее десятилетие жизни. Так, в 1967 г. после 19-летнего перерыва В.Г. принимает участие в месячной экспедиции с сотрудниками Зоомузея Биологического факультета и противочумниками в Армению. Он участвует в конференциях и съездах, чтобы посетить Хабаровский край и окрестности Владивостока. И конечно же, всегда стремясь в родной для него Бадхыз, он вновь, хотя и ненадолго, вырывается туда в 1962 г.
Со второй половины 50-х годов с ослаблением изоляции страны от остального мира отечественные ученые начали выезжать за рубеж в научные командировки и научно-туристические поездки. Неоднократно получал приглашения и В.Г. Оформление выезда за границу представляло в те времена сложную бюрократическую процедуру и проходило под многоэтапным партийным контролем и контролем со стороны КГБ. Немецкое происхождение продолжало играть свою роль и здесь. После нескольких неудачных попыток оформления В.Г. наконец в 1965 г. с деловыми целями посетил Чехословакию и Югославию, а затем Швейцарию (1966), Польшу (1967) и Францию (1968). Как ученый, пользовавшийся мировой известностью, В.Г. в числе прочих зарубежных научных обществ был членом Германского общества по изучению млекопитающих. Однако характерно, что, несмотря на многократные приглашения со стороны Общества и самые выгодные условия, на которых их делали, В.Г. никогда не выпускали на конгрессы и ассамблеи этого общества, в каких бы странах они ни проходили, а тем более в Восточной или Западной Германии (в то время разных государствах). Весной с 1964 по 1973 г. таких несостоявшихся поездок, для которых он тем не менее проходил полное оформление, было шесть.
Завершая этот краткий биографический очерк, необходимо подчеркнуть, что жизнь В.Г. не была легкой и гладкой. Судьба нередко наносила ему удары, и надо было обладать его мужеством и стойкостью, чтобы противостоять им, сохраняя неизменную работоспособность и стабильную научную продуктивность, несмотря на внешние неблагоприятные обстоятельства. Даже тяжелая болезнь, поразившая его в последний год жизни, внешне не отразилась на числе работ, выполненных за это время. Несомненно, источником, в котором В.Г. черпал новые силы, была его огромная любознательность, увлеченность зоологией, в которой было его призвание, любовь к науке и Московскому университету. Наука была для него главным делом жизни, и в этой связи характерно, что он был полностью чужд карьеризма, стремления кем-то или чем-то управлять, желания занимать какую-то видную или престижную должность. А между тем такие возможности перед ним открывались не однажды. Так, в 1958 г. после кончины лидера санкт-петербургской териологии профессора Б.С. Виноградова директор Зоологического института АН СССР, академик Е.Н. Павловский предложил В.Г. возглавить териологический отдел института. При этом в Петербурге семье В.Г. предоставлялась отдельная квартира (в Москве семья жила в коммунальной без перспектив на улучшение), а самому В.Г., помимо сугубой престижности самого места и отсутствия педагогических нагрузок, открывался быстрый и гарантированный путь к академическому креслу. Раздумья не были особенно долгими, и в ответном письме В.Г. со скрупулезным соблюдением всех норм вежливости отклоняет это весьма заманчивое предложение, мотивируя свой отказ невозможностью покинуть Москву. "Меня привязывают к ней мои семейные обстоятельства и почти сорокалетняя связь с Московским университетом и его Зоологическим музеем", — писал он Е.Н. Павловскому 19.XI 1958 г.
Трудно представить себе научную карьеру В.Г. без постоянной внешне незаметной, но по существу неоценимой и самоотверженной помощи его жены, Нины Сергеевны. Без преувеличения можно сказать, что после его женитьбы она стала в той или иной форме сопричастна практически всем его научным достижениям и успехам. У В.Г. был весьма определенный очень твердый, но настолько своеобразный почерк, что машинистки не брали в перепечатку его рукописи. Нина Сергеевна, профессиональная машинистка и до замужества, стала настоящим секретарем-машинисткой В.Г. Она перепечатывала все им написанное сначала на машинках знакомых. После выхода в свет "Общей зоогеографии" появилась возможность наконец приобрести собственную. Гонорар от книги был целиком употреблен на покупку портативной машинки "Ремингтон", на которой позднее был отпечатан и первый том "Млекопитающих" и многие другие работы. И сейчас эта машинка продолжает служить уже второму поколению семьи. Помимо секретарской работы, Нина Сергеевна вела весь дом и несла основную нагрузку по воспитанию сына. И можно без преувеличения сказать, что в значительной степени благодаря ее постоянным, не знавшим выходных дней и отпусков, заботам В.Г. мог не отвлекаться на бытовые проблемы и реализовать свое природное призвание зоолога, большого и истинного ученого.
М.В. Гептнер
Май—июнь 1992 г.